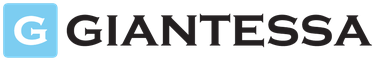Спорим, что читать древнегреческую трагедию легче, чем кажется?
Раньше я думала: в дремучее «до нашей эры» была совсем другая культура. У неё была своя многовековая история, в которой немного разбираются только кандидаты и доктора. Свой быт, религия, и в них множество традиций и условностей. Совсем непонятный язык. Сложный, его едва ли можно доступно перевести. Значит, литература тяжелая и для меня слишком запутанная. Если уж древнегреческие тексты и переводят на русский, то это наверняка похоже на Ломоносова. Да и смысл теряется. Я так раньше думала.
Но оказалось, что древнегреческую трагедию можно прочитать с интересом и даже кое-что понять, если немного подготовиться. Что надо знать?
Немного истории (совсем немного)
Древнегреческая трагедия появилась, условно, в VI веке до н.э. в Афинах. Время и место уже говорят многое: этот полис скоро станет процветающим центром экономики и культуры, наступит «золотой век Афинской демократии». Перикл, один из её основателей, сделает посещение театра обязанностью каждого гражданина, чтобы афиняне учились размышлять и спорить. Им такое развлечение понравится, и в V веке до н.э. драматические состязания станут центральным культурным событием в жизни полиса. Они будут проводиться раз в год. На них будут ставить три трагедии и три комедии разных авторов. В обоих жанрах - по одному победителю, их имена входят в историю. При этом даже самые успешные драмы ставятся только один раз, их никогда не показывают дважды. Все заботы по постановке, в том числе финансовые, возлагаются на знатных граждан полиса. Оплата и организация театральных состязаний - почётный долг и даже привилегия для афинских богачей.
Как появилась трагедия и при чём тут козёл?

Трагедия – тра-гос – может переводиться как "песнь козла". Дело в том, что трагедия корнями уходит в важный религиозный праздник – Дионисии. Бог сил природы и виноделия Дионис, как считалось, умирал с приходом зимы и воскресал весной. «Смерь» Диониса оплакивалась всем полисом. Ему приносили в жертву козла, а хор, одетый в козлиные шкуры, пел дифирамб – хвалебную песнь. Из хора выделялся запевала, которому отдавались короткие «сольные партии». Отсюда разовьётся строение трагедии: будет один герой, вступающий в диалог с хором.
Миф, судьба и катарсис

Драматурги не могли писать о чём вздумается. В основу сюжета всегда ложилось либо всем известное историческое событие, либо распространенный миф. Поэтому, к примеру, есть две «Антигоны», у Софокла и у Еврипида. Тем не менее, трагедии об одном и том же могли разительно отличаться друг от друга интерпретацией, смысловыми акцентами и деталями.
Греки верили в судьбу. Каждое событие, как они считали, предопределено. Человек не может изменить судьбу. Олицетворением судьбы в трагедии был хор. Он всегда знал, что ждёт героя, а тот вопрошал хор о своём будущем. Он делился на две группы: первая, читая строфу, двигалась в одну сторону, вторая, читая антистрофу, двигалась в противоположную. Маятниковое движение двух групп хора символизировало течение времени и неотвратимость событий, уготованных судьбой.
На трагедии не надо было плакать. Слишком эмоциональные постановки греки не любили. На трагедии можно было бояться и сострадать. Для зрителей трагедия – это источник не только переживания, но и знания. Опыт не только эмоциональный, но и интеллектуальный. Сопереживание героям и осмысление их судьбы должны были помочь человеку «очиститься» от негативных эмоций и мыслей. Именно это означает катарсис.
Кого читать?

Самый ранние сохранившиеся трагедии принадлежат Эсхилу , поэтому его часто называют «отцом трагедии». Он ввёл второго актёра и сократил партии хора, отдав предпочтение диалогу. Главные темы его трагедий – патриотизм и величие Афин. Эсхил был участником греко-персидских войн, продолжительного кровопролитного нашествия персов. Греки вышли из войны победителями, и ключевую роль в этом сыграли Афины. Эсхил сражался при Марафоне, Саламине и Платеях – главных битвах греко-персидских войн. Известнейшая трагедия Эсхила о славной истории его полиса – «Персы». В ней он и возвеличивает героизм сограждан, и сострадает недавним врагам. А главное, предостерегает афинян – гордыня и жажда власти могут привести к краху не только персов, но и их самих.
Трагедии Софокла приходятся на эпоху наивысшего расцвета жанра. Он ввёл третьего актёра, еще более усложнив композицию. Он же стал использовать в постановках декорации. Софокл, следуя за Эсхилом, сократил хоровые партии. Так он смог раскрыть характеры и душевное состояние героев. Он часто изображал перепады настроения, динамику образа, духовное и интеллектуальное развитие персонажей. Софокл любил противопоставлять совершенно разных героев, заставлял их спорить, отстаивая противоположные взгляды на одну проблему. Софокл писал о судьбе, о том, как человек тщетно пытается убежать от страшного будущего. Виноват ли герой в совершенном преступлении, если он не распоряжается свой судьбой? Древнегреческий «детектив» о неотвратимости судьбы – «Царь Эдип».
Последним классическим трагиком был Еврипид . Его образы еще более психологичны, он детально разрабатывает диалоги и монологи героев. Они борются не с силами судьбы, а с собой, решают злободневные социальные и этические проблемы. Его интересуют разные люди, поэтому в трагедиях Еврипида встречаются глубокие образы рабов, бедняков и прочих «не-героев». Для него важны как мужские, так женские образы, а семейная жизнь – одна из самых интересных для него тем. Так он уходит от строгих рамок исторических и мифологических сюжетов. Одновременно он разрушает традиционную структуру древнегреческой трагедии. Миф становится живой современной историей, а его герои – обычными людьми в трагедии «Медея».
Ещё пять важных фактов

- Актерами могли быть только мужчины. Более того, эта профессия была очень почётной, поэтому актёры должны были иметь безупречную репутацию и, естественно, они были свободными гражданами полиса.
- Играли в масках. Традиция сохранилась со времен проведения обрядов в честь Диониса. Все участники таинства должны были скрывать своё лицо от непосвященных. Впоследствии эта традиция оказалась весьма полезной, потому что в театре играли только мужчины, и женские образы легче создавались при помощи гипсовых, ярко раскрашенных масок.
- Одежды всегда были яркими и пышными. У актёров была специальная обувь на платформе – котурны.
- Поскольку спектакли обязаны были посещать все граждане полиса, был создан специальный фонд, из которого оплачивались жетоны (билеты) для малоимущих граждан.
- Театры были огромными, потому что они были рассчитаны на всех граждан полиса, то есть на несколько тысяч зрителей. С архитектурной точки зрения это были амфитеатры под открытым небом. А между рядами были резонаторы. Чтобы все могли слышать речь актёров.
Кстати, древнегреческие трагедии довольно часто ставят в российских театрах. К примеру, в репертуар входит опера Игоря Стравинского "Царь Эдип". И "Электра" Рихарда Штрауса. Возможно, постановка, хоть и оперная, поможет подготовиться к чтению.
С древнейших времен на празднествах в честь Диониса, или Вакха, - бога виноградной лозы и вина - поселяне устраивали торжественные процессии к храму и в жертву богу приносили козлов. Они наряжались в козлиные шкуры, подвязывали копыта, рога и хвосты, изображая спутников Диониса - козлоногих сатиров. В честь бога хором исполнялись торжественные песнопения (дифирамбы), сопровождавшиеся играми и танцами. При этом из хора выделялся запевала, который изображал Диониса или какую-либо другую мифическую личность, и пение исполнялось попеременно то хором, то запевалой. Вот отсюда и произошла трагедия («трагедия» по-гречески значит «песнь козлов»). Первоначально в ней участвовали только хор и сам автор в роли единственного актера. Первые трагедии излагали мифы о Дионисе: о его страдании, смерти, воскресении, борьбе и победе над врагами. Но затем поэты стали черпать содержание для своих произведений и из других сказаний. В связи с этим и хор стал изображать не сатиров, а другие мифические существа или людей в зависимости от содержания пьесы.
Трагедия возникла из торжественных песнопений. Она сохранила их величественность и серьезность, ее героями стали сильные личности, наделенные волевым характером и большими страстями. Греческая трагедия всегда изображала какие-нибудь особо тяжелые моменты в жизни целого государства или отдельного человека, страшные Преступления, несчастья и глубокие нравственные страдания. В ней не было места шутке и смеху.
Наивысшего расцвета трагедия достигает в V в. до н. э. в творчестве трех афинских поэтов: Эсхила, Софокла и Еврипида.
До Эсхила драматические представления были еще очень примитивны, так как участие всего лишь одного актера не позволяло поэтам представить сложное действие, показать борьбу идей, взглядов, настроений и т. д. Только после того как Эсхил, «отец трагедии», ввел второго актера и перенес центр внимания в пьесе с хора на диалог актеров, трагедия стала настоящим драматическим представлением. Но все-таки в трагедиях Эсхила хор играл еще важную роль. Только с появлением в драме третьего актера, которого ввел Софокл, хор постепенно утрачивает свое значение, а с конца IV в. до н. э. пишутся трагедии и вовсе без хора.
Таким образом, в древнегреческой трагедии были пение, пляска и музыка. Этим она отличалась от трагедии более позднего времени.
Пьесы же с хором сатиров выделились в особый жанр - шуточное веселое представление, «сатировскую драму». К празднику Диониса каждый поэт в Афинах, желавший принять участие в драматическом состязании, должен был представить три трагедии - трилогию и одну сатировскую драму.
Старшим из трех великих трагиков был Эсхил. Он родился в 525 г. до н. э. в местечке Элевсине, близ Афин. Время его жизни совпадает с эпохой греко-персидских войн и укрепления в Афинах демократического строя. В качестве гоплита (тяжеловооруженного воина-пехотинца) Эсхил сражался за счастье и свободу родины против персидских захватчиков.
Древние приписывали Эсхилу 72 или 90 пьес, из них полностью до нас дошло только семь трагедий: «Просительницы», «Персы», «Семеро против Фив», «Прикованный Прометей» и трилогия «Орестея», состоящая из трагедий: «Агамемнон», «Хоэфоры» («Женщины, совершающие надгробное возлияние») и «Эвмениды».
У своих современников Эсхил пользовался славой величайшего поэта: 13 раз он был победителем в драматических состязаниях и его пьесы получили исключительное право на повторные постановки. В Афинах поэту был поставлен памятник. Под конец жизни Эсхил переехал в Сицилию, где и умер в 456 г. до н. э. в городе Геле. Надпись на могиле прославляет его как доблестного воина.
Сюжетами всех трагедий Эсхила, кроме «Персов», являются древние мифы о богах и героях, но в эти мифические сказания поэт вкладывает идеи, понятия и взгляды своего времени, отражая политическую жизнь афинского общества V в. до н. э. Сторонник афинского демократического строя, Эсхил выступает в своих произведениях как пламенный патриот, враг тирании и насилия, твердо верящий в победу разума и справедливости. На примерах героических образов древней мифологии Эсхил воспитывал сограждан в духе беззаветной преданности родине, мужества и честности.
Мысль о преимуществах демократического строя над монархическим деспотизмом с большой силой выражена поэтом в трагедии «Персы». В ней он прославляет блестящую победу греков над персами при Саламине. Поставлена была трагедия через 8 лет после этой битвы. Легко представить себе, какое огромное впечатление производили «Персы» на зрителей, большинство из которых, как и Эсхил, были участниками греко-персидской войны.
В далекие времена греческой истории сложились мифы о проклятии, тяготевшем над целыми родами. Злосчастной судьбе рода Лабдакидов посвящены трагедия Эсхила «Семеро против Фив»; три трагедии Софокла: «Царь Эдип», «Эдип в Колоне» и «Антигона»-и трагедии Еврипида: «Финикиянки» и отчасти «Просительницы». Но излагая один и тот же миф, каждый из поэтов по-своему истолковывал его в зависимости от тех целей, которые он преследовал в своих трагедиях.
В древнем мифе рассказывалось о том, что фиванский царь Эдип из рода Лабдакидов в полном неведении совершил ужасные преступления: он убил родного отца Лаия и женился на своей матери Иокасте. Только по прошествии многих лет страшная истина открылась его глазам. В ужасе от совершенных преступлений Эдип ослепил себя. Но род Лабдакидов не избавился от проклятия. Сыновья Эдипа - Этеокл и Полинник напали друг на друга и оба погибли в братоубийственной войне.
Осада семивратных Фив Полинником, который привел на свою родину чужестранное войско во главе с шестью аргивскими полководцами, битва его с Этеоклом и смерть обоих братьев являются сюжетом трагедии Эсхила «Семеро против Фив».
Борьбу двух братьев за царскую власть Эсхил представляет в трагедии как борьбу свободного фиванского народа против чужеземных захватчиков - аргивян, пришедших поработить город, предать его огню и насилию. Создавая страшную картину осажденного города, поэт вызывает в памяти зрителей настроения, подобные тем, которые греки испытывали в годы персидского нашествия. Правитель Фив Этеокл, согласно мифу, - слепое орудие в руках богов. В трагедии же он изображен как решительный, разумный и смелый военачальник. Это - человек сильной воли, идущий на битву с братом сознательно, во имя защиты своего отечества. Образ Этеокла сочетает в себе все лучшие качества греческих бойцов, героев Марафона и Саламина. Так под влиянием современных ему событий обработал Эсхил древнее сказание.
Всемирной известностью пользуется трагедия поэта «Прикованный Прометей», в которой он увековечил образ тираноненавистника, борца за свободу, счастье и культуру человечества титана Прометея.
Желая спасти от гибели человеческий род, Прометей похитил у Зевса огонь и передал его людям. Он научил их строить жилища и корабли, приручать животных, распознавать лекарственные растения; преподал им науку чисел и грамоту, наделил людей сознанием и памятью. За это Зевс жестоко наказал титана. В ответ посланнику Зевса Гермесу, грозившему ему новыми мучениями, Прометей гордо заявляет:
Знай хорошо, что я б не променял
Своих скорбей на рабское служенье…
Борец за правду и справедливость, Прометей говорит, что он ненавидит всех богов. Эта трагедия была одним из любимых произведений Карла Маркса.
Могучие характеры образов эсхиловских трагедий производили огромное впечатление. Для выражения чувств и мыслей этих героических личностей требовался особенно величественный и торжественный стиль. Поэтому Эсхил создал поэтическую речь, насыщенную яркими гиперболами, метафорами, сочинял сложные слова, состоящие из нескольких корней и приставок. В связи с этим понимание его трагедий постепенно все более затруднялось и интерес к его творчеству у позднейших поколений снизился.
Однако влияние Эсхила на всю последующую мировую литературу огромно. Особенно привлекал поэтов всех эпох и направлений образ Прометея, который мы находим в произведениях почти всех знаменитых поэтов XVII - XIX вв.: Кальдерона, Вольтера, Гёте, Шелли, Байрона и других. Русский поэт революционер-демократ Огарев написал стихотворение «Прометей», в котором выражал протест против тирании Николая I. Большое влияние оказало творчество Эсхила и на композиторов: Листа, Вагнера, Скрябина, Танеева и других.
Творчество младших современников Эсхила - Софокла и Еврипида - относится к периоду наивысшего экономического и культурного расцвета афинского демократического государства.
После победы над персами Афины становятся научным и культурным центром всей Греции- «школой Эллады». Туда съезжаются ученые, художники, скульпторы, архитекторы. Создаются величайшие произведения искусства, среди которых одно из первых мест занимает храм Афины - Парфенон. Пишутся труды по истории, медицине, астрономии, музыке и т. д.
Особый интерес проявляется к личности самого человека. Красоту человеческого тела изображают скульпторы Фидий и Поликлет. Внутренний мир человека, его нравственные переживания раскрывают греческие трагики Софокл и Еврипид. Как и Эсхил, они черпают сюжеты для своих произведений из древних мифологических сказаний. Но созданные ими герои - это уже не возвышающиеся над простыми смертными могучие непоколебимые титаны, а живые люди, которые вызывают у зрителей глубокое сочувствие к своим страданиям.
В знаменитой трагедии Софокла «Царь Эдип» все внимание сосредоточено не на внешних событиях, а на чувствах, овладевающих Эдипом по мере того, как он узнает о совершенных им преступлениях. Из счастливого, любимого и уважаемого своим народом царя Эдип превращается в несчастного страдальца, обрекающего себя на вечную слепоту и изгнание. О гибели детей Эдипа рассказывает другая замечательная трагедия Софокла - «Антигона».
Еврипид, как и Софокл, с тонкой наблюдательностью рисует в своих трагедиях смену чувств и настроений действующих Лиц. Он приближает трагедию к жизни, вводит в пьесу много бытовых черт из семейной жизни своих героев. Будучи одним из самых передовых людей своего времени, Еврипид вкладывает в уста действующих лиц рассуждения о несправедливости рабства, о преимуществах демократического строя и т. д. Лучшая из дошедших до нас трагедий Еврипида - «Медея».
Творчество Эсхила, Софокла и Еврипида сыграло колоссальную роль в воспитании многих поколений. Защита афинского демократического строя, защита прав человека, дух патриотизма и непримиримой ненависти к тирании и насилию, любовь к свободе - вот то, что составляет основу древнегреческой трагедии.
Трагедийная интерпретация мифа об Атридах у Эсхила, Софокла и Еврипида
Античные трагики чаще всего брали за основу своих произведений древние мифы, которые каждый из авторов интерпретировал исключительно по-своему. Один и тот же миф у разных авторов мог трактоваться настолько по-разному, что герои этого мифа в одних произведениях могли представать как положительные, в других же - как отрицательные. Примером подобного явления можно считать комплекс трагедий, в основе которых лежит «миф об Атридах». Три величайших древнегреческих трагика - Эсхил, Софокл и Еврипид - создали ряд драматических произведений, в которых по-своему трактовали мифологические события, условными хронологическими рамками которых принято считать первое десятилетие после Троянской войны.
Непосредственно миф
1) Род Атридов начинается с Тантала - сына Зевса и нимфы Плуто. Тантал, правящий городом Сипила, был смертным, однако считал себя равным богам. Т.к. он был их любимцем, то ему не раз приходилось бывать на их божественных пирах, откуда он осмеливался доставлять пищу богов на землю для угощения смертных. Он не раз пытался обмануть богов, и, в конце концов, чаша их терпения переполнилась. Однажды Тантал решил проверить богов, насколько они всеведущи. Он убил своего сына Пелопса и решил угостить его мясом богов, приглашенных на его пир. Боги, разумеется, не поддались обману, за исключением одной лишь Деметры. Пелопс был воскрешен, а Тантал наказан богами, и первым навлек проклятие на своих потомков.
2) Пелопс, сын Тантала, решил взять в жены дочь царя Эномая - Гипподамию. Однако для этого ему было необходимо победить Эномая в скачках, тогда так тот был лучшим наездником. Пелопс при помощи хитрости победил Эномая. Перед состязанием он обратился к Митрилу, сыну Гермеса, который следил за конями Эномая, с просьбой подать Эномаю колесницу в неготовом для состязания виде. В результате Пелопс победил исключительно благодаря этой хитрости, однако не пожелал вознаградить Митрила, как полагается, а просто убил его, получив в качестве предсмертного крика Митрила родовое проклятие. Таким образом, Пелопс навлек на себя и на весь свой род гнев богов.
3) Атрей и Фиест - сыновья Пелопса. Они изначально оказываются обречены на свершение злодеяний: Атрей получил власть в Микенах, из-за чего брат начинал завидовать ему. Фиест украл сына брата и воспитал в нем ненависть к отцу, в итоге юноша сам пал от руки отца, не знавшего, кого он убивает. Атрей в отместку приготовил Фиесту трапезу из его же сыновей. Боги прокляли Атрея и наслали на его земли неурожай. Чтобы исправить положение, необходимо было вернуть Фиеста в Микены, однако Атрей нашел только его маленького сына - Эгисфа, которого сам воспитал. Затем сыновья Атрея - Менелай и Агамемнон, нашли Фиеста и призвали его в Микены. Братья - Фиест и Атрей - так и не помирились. Атрей приказал Эгисфу убить Фиеста, заключенного в темнице. Однако Эгисф узнал, что Фиест его отец. Эгисф убил дядю Атрея. И они с отцом стали вдвоем править в Микенах, а Агамемнон и Менелай были вынуждены бежать. Впоследствии Агамемнон свергает Фиеста и занимает престол в Микенах.
4) Агамемнон приносит свою собственную дочь в жертву Артемиде, чтобы та сменила свой гнев на милость и позволила кораблям Агамемнона выйти на Трою. Клитемнестра, жена Агамемнона, мстит мужу, когда тот возвращается из-под Трои, за смерть дочери. Вместе с Эгисфом они захватывают власть в Микенах.
5)Орест, сын Агамемнона и Клитемнестры, чуть было не подвергся страшной участи, будучи еще ребенком. Он был единственным наследником Агамемнона, поэтому Клитемнестра была заинтересована в том, чтобы его не было. Однако Орест спасается и долгое время воспитывается у царя Строфия в Фокиде. В сознательном возрасте Орест возвращается вместе со своим другом Пиладом в Микены и убивает Клитемнестру и Эгисфа в качестве мести за смерть Агамемнона. Ореста как матереубийцу преследуют Эринии - богини мести. Герой ищет спасения в храме Аполлона, однако Аполлон посылает его в Афины в храм Афины, где над Орестом Афина учреждает суд, в ходе которого Ореста оправдывают.
7) Скитания Ореста на том не заканчиваются, и он вынужден отправиться в Тавриду за священной статуэткой Артемиды. На острове его чуть было не приносит в жертву богам его собственная сестра Ифигения, которая оказывает живой, несмотря на то, что Агамемнон именно ее приносил в жертву богам (в последний момент боги, чтобы не допустить кровопролития, вместо Ифигении подкладывают на жертвенник лань, а Ифигению отправляют в Тавриду в качестве жрицы храма Артемиды). Орест и Ифигения узнают друг друга, бегут из Тавриды и вместе возвращаются на родину.
Последние эпизоды мифа об Атридах нашли отражение в трилогии Эсхила «Орестея», состоящей из частей «Агамемнон», «Плакальщицы» и «Эвмениды», и в трагедиях Софокла «Электра» и Еврипида «Ифигения в Авлиде», «Электра», «Орест», «Ифигения в Тавриде». Непосредственное сравнение трех авторских точек зрения возможно на уровне «Орестеи» Эсхила и двух трагедий Софокла и Еврипида.
Эсхил
Для того чтобы понять точку зрения Эсхила, необходимо проследить, как развивается миф об Атридах, начиная с первой части трилогии.
Главными героями первой трагедии «Агамемнон» является сам царь Агамемнон и его супруга Клитемнестра. События привязаны к десятому году Троянской войны. Клитемнестра замышляет злой план против своего мужа, желая отомстить ему за убийство своей дочери Ифигении, которую Агамемнон был вынужден принести в жертву ради того, чтобы умилостивить Артемиду, по чьей воле его флот не мог отправиться в поход на Трою. Царь преследовал общественные интересы:
В ярмо судьбы - раз он впрягся выей,
И помысел темный - раз к несчастью,
Ожесточася, уклонил, -
Стал дерзостен, стал дышать отвагой.
Умыслив зло, смертный смел: одержит
Недужный дух единая ярость.
Вот семя греха и кар!
Дочь обрекает на казнь отец,
Братнего ложа мститель, -
Только б войну воздвигнуть! (реплика хора, отражающая авторскую позицию)
Клитемнестра же не могла смириться со смертью дочери и несправедливостью судьбы. Судя по тексту трагедии Эсхила, женщиной она была своенравной и вольной, она не хотела дожидаться возвращения мужа из многолетней войны, завела себе любовника в лице Эгисфа, который приходился двоюродным братом Агамемнону. Свои чувства героиня мастерски скрывает под видом внешнего целомудрия.
Дом цел: нигде царева не снята печать.
Как медный сплав подкрасить не сумела б я,
Измены так не ведаю. Мне чужд соблазн.
Злоречие немеет. Честной женщине
Такою правдой, мнится, похвальба - не стыд.
Постепенно в трагедию вводится авторское видение проблемы рода Атридов, Эсхил указывает на рок, как на неизбежно и вечно довлеющую силу над всеми представителями данного рода. Мотив рока появляется в трагедии Эсхила на разных уровнях. В том числе, он возникает в репликах хора первого стасима, где говорится о том, что и война с Троей также была неизбежностью, поскольку Елена - главный виновник известных событий - принадлежала к роду Атридов, поскольку была женой Менелая, брата Агамемнона.
Она ушла, родине в дар мечи
И копий лес, путь морской, ратный труд оставив,
Неся троянцам пагубу в приданое.
Порхнула пташкой из теремов! Порог
Непреступимый перешла...
Выходит, что сквозь призму авторского видения происходящие события диктуются роком и богами, которых Эсхил изображает в качестве верховных существ, имеющих огромное влияние на людей. Повествование ведется таким образом, что представители хора заранее знают всю ситуацию, разворачивающуюся перед читателем, в их репликах периодически возникают намеки на страшное окончание разворачивающихся событий:
Вестник
Что ж граждан столь крушило? Аль за войско страх?
Предводитель хора
Чтоб лиха не накликать, - я молчать привык.
Вестник
Бояться сильных начал без царя народ?
Предводитель хора
Как ты, скажу я: ныне мне и смерть красна.
Итак, Клитемнестра как хитрая и ловкая женщина с огромной пышностью встречает своего мужа, искусно играя роль счастливой супруги, которая радовалась возвращению мужа. Встреча оказывается до того пышной, что даже самому Агамемнону становится неловко перед богами за столь роскошный прием в его честь. Клитемнестра затуманивает его разум своими сладкими речами, и рассказывает по то, что отослала сына их Ореста из Аргоса во избежание страшной опасности, которая как бы ожидала его, хотя вся история придумана лично самой Клитемнестрой, чтобы иметь возможность осуществить свой коварный план.
Истинные намерения прямо выражаются Клитемнестрой лишь в конце второго стасима, когда она заманивает Агамемнона одного во дворец, чтобы свершить свое намерение.
О Зевс верховный, Зевс-вершитель, сам сверши,
О чем молю! Воспомни, что судил свершить!
Ощущение неизбежности, трагизма нагнетается при помощи введения в действие трагедии еще одного значимого персонажа - Кассандры, которую Агамемнон привозит с собой из Трои в качестве наложницы. По мифу Кассандра обладала исключительным даром видеть будущее, однако по воле Аполлона ее словам никто не верил. Так, героиня становится выразителем истинного порядка вещей в трагедии:
Богопротивный кров, злых укрыватель дел!
Дом - живодерня! Палачей
Помост! Людская бойня, где скользишь в крови.
<…>
Вот они, вот стоят, крови свидетели!
Младенцы плачут: "Тело нам
Рассекли, и сварили, и отец нас ел".
Речи представителей хора достигают эмоционального апогея в момент убийства Агамемнона, когда становится ясно, что даже возвеличенный богами герой в многочисленных боях не избежит страшной участи всего рода Атридов:
Возвеличен богами, пришел он домой.
Если ж кровью царю искупить суждено
Стародавнюю кровь и, насытив теней,
Завещать кровомщенье потомкам:
Кто похвалится, слыша преданье, что сам
Первородной не тронут заразой? (реплика предводителя хора)
Сразу же после убийства читатель узнает о внутреннем состоянии Клитемнестры, которая в первые часы после страшного свершения ощущала свою полную правоту, незапятнанность перед богами; она оправдывается тем, что мстила мужу за смерть дочери. Однако постепенно к Клитемнестре приходит осознание того, что ее воля была подчинена неподвластной ей силе рока:
Справедливое ныне ты слово обрел:
Навий демон в роду.
Отучнел кровопийством, но чрево грызет
Зараженной семье ненасытным червем.
И не зажил гноящийся веред в паху,
Как уж новые язвы раскрылись.
В героине просыпается страх за содеянное, она уже теряет уверенность в своей правоте, хотя и пытается убедить себя и успокоить, что все сделала правильно. Однако ключевыми остаются ее реплики о роке, висящем над родом:
Не мое это дело, хоть руки мои
Заносили топор.
Все ж подумай, старик: Агамемнон - мне муж!
Нет! злой дух родовой, доможил роковой,
Стародавний упырь - под чертами жены -
За Атрееву бойню, родительский грех,
Агамемнона в дар
Тем замученным отдал младенцам.
В конце четвертого стасима Клитемнестра сама называет свой поступок наваждением, она не видит никакой возможности исправить случившееся.
Трагедия «Агамемнон» завершается ни на печальной, ни на радостной ноте, что указывает на то, что главный вопрос трилогии еще не разрешен; дальнейшее развитие событий происходит в трагедии «Плакальщицы».
Трагедия «Плакальщицы», в отличие от предыдущей, раскрывает образы еще двух героев, принадлежащих к роду Атридов - Электры и брата ее Ореста. Действие начинается с того, как Орест прибывает со своим другом Пиладом на родину, чтобы почтить память своего отца. В это же время к могиле подходит хор плакальщиц во главе с Электрой. Героиня жалуется на свою несчастную судьбу, всячески осуждает мать за ее поступки: убийство законного мужа, нового мужа Эгисфа, жестокое обращение и т.д.
Нас продали. Без крова, без приюта мы.
Нас мать с порога гонит. Мужа в дом взяла.
Эгисф - нам отчим, недруг и губитель твой.
Служу я за рабыню. На чужбине брат,
Ограбленный, опальный. На роскошество
Пошло их спеси, что стяжал трудами ты. (речь Электры)
Чудесным образом происходит сцена узнавания брата с сестрой, в ходе которой Электра долго не хотела верить словам Ореста, и лишь косвенное доказательство сумело убедить ее, разбитую горем, что перед ней действительно стоит ее брат:
Орест
А плащ мой не узнала, что сама ткала?
А сих зверей узоры выткал кто на нем?
Электра
Желанный мой, любимый! Ты четырежды
Оплот мой и надежда; рок и счастье!
Брат с сестрой объединяются в желании отомстить за своего отца. С одной стороны, участницы хора - плакальщицы, убеждают героиню в необходимости мести, с другой же - бог Аполлон призывает Ореста воздать должное матери-мужейбийце. Решительный настрой и ненависть к матери, росшая в течение времени, от Электры передаются и Оресту. А жалобы героини накаляют атмосферу:
О, мать моя, злая мать,
Ты смела вынос обратить в бесчестие!
Без граждан, без друзей,
Без плача, без молитв,
Безбожница, в прах зарыть владыку!
Несмотря на то, что герои, на первый взгляд, сами берут на себя ответственность за все то, чему суждено свершиться согласно их замыслам, Эсхил не перестает включать в реплики хора свою ключевую позицию, которая состоит в том, что все члены рода Атридов изначально обречены на страдания и несчастья. Невзирая на видимую свободу героев в принятии решений, мотив рока выходит на первый план:
Хор
Давно предназначенье ждет:
Рок да придет на вызов.
Участники хора изначально осведомлены, как будут развиваться события, связывающие Электру, Ореста и Клитемнестру, однако для поддержания интриги и эмоционального накала, возникающего практически с самого начала трагедии, реплики хора зачастую не прямые и порой двусмысленные. Так, благодаря диалогу предводительницы хора и Ореста читатель узнает о том, что рок преследует Клитемнестру даже во сне, ведь она видела дурное предзнаменование, касающееся ее собственной смерти. Перед ложным гостем в лице Ореста она выражает искусственное сожаление о смерти своего сына, тогда как о ее истинных мыслях мы узнаем лишь из речи служанки:
…На глазах у слуг
Она убита горем, а во взгляде смех
Под хмурой бровью прячется. Удача ей,
А дому плач и пагуба конечная, -
Что гости возвестили речью явственной. (Килисса)
Тем временем совершается обман, обернувшийся для рода Атридов очередной трагедией в череде страшных убийств. Автор посредством реплик хора продолжает объяснять происходящие события роком и божественной волей:
Вражью силу истреби!
Как придет час опустить меч
И вскричит мать: "Пощади, сын!" -
Об отце лишь вспомяни ты
И не страшись разить: дерзай
Бремя приять проклятья!
И действительно, ничто не останавливает Ореста перед свершением двух убийств - сперва Эгисфа, а потом и матери Клитемнестры. Орест и сам понимает, что он в некоторой степени безволен и, убивая мать, проявляет неспособность сопротивляться силе рока и божественному влиянию, полностью отказывается самостоятельно мыслить. В момент убийства герой произносит фразу: «Не я убийца: ты казнишь себя сама», которая отражает внутреннее состояние героя, показывает, что герой либо не задумывается, либо не беспокоится о том, что следом за убийством последует наказание свыше. К тому же в Эксоде предводительница хора в числе заключительных реплик говорит:
По правде поступил ты. Запрети ж устам
Порочить меч твой. Зло прикличет наговор.
Ты весь народ аргивский свободил, срубив
Единым махом двум драконам головы.
Однако стразу же за преступлением на героя обрушивается наказание в виде преследующих его страшных Эриний, желающих его покарать за совершенное кровное убийство. Произведение завершается на трагической ноте репликой хора, включающей в себя вопрос, ответ на который так и остается неясным:
Вновь затишье - доколь? И куда приведет,
И замрет ли проклятие рода?
Завершает трилогию «Орестея» трагедия «Эвмениды», где главным действующим лицом становится один из немногих живых потомков рода Атридов - Орест. Центральной проблемой трагедии оказывается уже не столько проблема рока, сколько проблема справедливого наказания.
Орест, преследуемый Эриниями, не находит защиты в храме своего покровителя Аполлона, который лишь ненадолго усыпляет Эриний, позволяя тем самым Оресту бежать в Афины в храм Афины Паллады и искать там защиты. Аполлон берет ответственность за совершенное преступление, однако это не снимает вины с главного героя.
Аполлон
Тебе не изменю я; до конца твой страж,
Предстатель и заступник, - приближаюсь ли,
Стою ль поодаль, - грозен я врагам твоим.
Эринии и Клитемнетстра, возникающая в трагедии в виде тени, приходящей из подземного царства Аида, жаждут мести. Основным их аргументом против Ореста является то, что он убил мать, совершил кровное преступление, что никак нельзя сравнивать с преступлением Клитемнестры - мужеубийством.
Соответственно, возникает противостояние Аполлона, который превыше всего ставит «клятвенный союз, что установил Зевс/ С семейственной Герой…», и Эриний, для которых «Мужеубийство - не убийство кровного».
Мудрая Афина решает устроить справедливый суд над Орестом и созывает судей и почетных граждан.
Эсхил выражает свою позицию таким образом, будто он отстраняется от происходящего в трагедии и представляет героям самостоятельно решать проблемы:
Ниспровергнут старый строй,
Век настал - новых правд,
Если ныне суд решит:
Мать убить - нет греха,
Прав Орест.
На суде голоса распределяются равным образом, что позволяет автору искусным образом ввести в произведение свое видение проблемы наказания, на сей раз выраженное в репликах Аполлона и Афины:
Аполлон
Не мать дитяти, от нее рожденного,
Родительница: нет, она кормилица
Воспринятого семени. Посеявший
Прямой родитель. Мать же, словно дар, в залог
От друга-гостя взятый на хранение, -
Зачатое взлелеет, коль не сгубит бог.
Афина
Мужское все любезно, - только брак мне чужд;
Я мужественна сердцем, дщерь я отчая.
Святее крови мужа, как могу почесть
Жены, домовладыку умертвившей, кровь?
Таким образом, трилогия Эсхила имеет счастливый конец, хотя на протяжении трех трагедий героям пришлось испытать немало трудностей и столкнуться с трудноразрешимыми задачами.
Автор предлагает читателю свою интерпретацию мифа об Атридах, основной особенностью которой является вера в неминуемый рок, в практическое полное отсутствие личностного начала в герое в момент совершения страшных преступлений, что касается как Клитемнестры, внутри которой быстро возникли сомнения в ее правоте, стоило лишь ей совершить преступление, тогда как в момент убийства она ничуть не сомневалась, что ее поступок оправдан, так и Ореста, исполняющего волю богов при совершении убийства собственной матери.
Софокл
Собственную драматургическую интерпретацию мифа об Атридах предложил также Софокл в трагедии «Электра». По одному лишь названию можно судить о том, что авторское воплощение древнего мифа в данном произведении будет отличаться от предложенного Эсхилом. Софокл выводит главного героя трагедии в название, по пьесам же Эсхила мы знаем, что Электра не была главным действующим героем даже во второй части «Орестеи» - в «Плакальщицах».
Трагедия открывается прологом, содержащим монологи Ореста, Наставника и Электры. Уже по первой речи Ореста читатель может понять, какими основными принципами руководствовался Софокл, перелагая известный миф на свой манер. Герои трагедии наделены большим количеством индивидуальных черт, они вольны сами принимать решения, а не слепо повинуются велениям богов:
Я посетил святилище Пифона,
Узнать стремясь, как должен я отмстить
За смерть отца, как отплатить убийцам, —
И вот пресветлый мне ответил Феб,
Что хитростью, без войска, без оружья,
Месть праведную сам свершить я должен. (речь Ореста)
Речи Электры не просто полны трагизма, но и эмоционально насыщенны. Даже на уровне чисто зрительно восприятия текста трудно не заметить, что реплики героини состоят из большого количества восклицательных предложений и неоконченных предложений, передающих колебания внутреннего состояния Электры:
Ах, благородные сердцем
Девушки! Скорбь вы мою утешаете...
Вижу и чувствую, - верьте, приметно мне
Ваше участье... Но нет, я по-прежнему
Стану стенать о несчастно погубленном
Отце... О, пусть
Дружеской нежностью связаны мы во всем,
Оставьте, дайте мне
Скорбеть, молю!..
Софокл нередко прибегал к использованию контрастов, которые были отличительно чертой его творчества, поэтому и в «Электре» на многих уровнях он применяет данный прием.
Так, для воплощения образа Электры Софокл вводит в произведение еще один женский образ - Хрисофемиду, сестру Электры. Обе девушки пережили одну и ту же трагедию, однако Хрисофемида смирилась со своей горькой участью, а Электра - нет. Одна сестра жаждет мести, другая же призывает ее успокоиться и молча переносить состояние униженных, тогда как поведение их матери Клитемнестры и Эгисфа лишь усугубляет ситуацию, заставляя Хрисофемиду еще больше страдать, а Электру - жаждать жестокой мести.
Хрисофемида
Зачем пытаться наносить удар,
Когда нет сил? Живи и ты, как я...
Однако я могу лишь дать совет,
А выбор - за тобой... Чтоб быть свободной,
Покорствую, сестра, имущим власть.
Электра
Позор! Такого позабыв отца,
Ты матери преступной угождаешь!
Ведь все твои увещеванья - ею
Подсказаны, советы - не твои.
Софокл выводит на первый план не проблему рока, как то делает Эсхил, а проблему внутреннего переживания убийства, кажущегося Электре несправедливым. Электра практически не уходит со сцены, и автор именно через реплики проводит весь ход трагедии. Она является единственной героиней, перед которой открыт весь ужас происходящего, ведь она переживает не только гибель отца от руки собственной же матери, но и отсутствие человеческих условий для жизни, что вызвано волей Клитемнестры и Эгисфа. Однако героиня слишком слаба, чтобы самостоятельно отважиться на месть, а в своей сестре она не находит поддержки.
В трагедии «Электра» Софокл использует ряд традиционных элементов, восходящих еще к произведениям Эсхила: вещий сон Клитемнестры, ложная смерть Ореста, сцена узнавания по пряди волос, которая, как мы увидим позже, будет совсем иным образом интерпретирована у Еврипида.
Что касается образа Клитемнестры, то автор изобразил и её по-новому. Героиня полностью отдает себе отчет в свершенном преступлении, однако она не испытывает мук совести:
Это верно,
Убит, не отрицаю. Но убила
Не только я: его убила Правда.
Будь ты умна, ты пособила б ей.
Электра не может согласиться с точкой зрения матери, но не только потому, что убита горем, но и потому, что считает, что мать не имела ни малейшего права поднимать руку на мужа, что помимо убийства она совершила еще и предательство всего своего рода, когда поставила рядом с собой Эгисфа - недостойного мужа.
Орест с Наставником придумывают трагичную историю якобы смерти Ореста, чтобы заманить в ловушку Клитемнестру и Эгисфа. Электре приходится пережить очередное потрясение, на даже после известия и смерти брата нельзя сказать, что она оказывается сломленной духом. Она предлагает Хрисофемиду на пару с ней совершить справедливую месть, однако сестра продолжает стоять на своей позиции и призывать Электру отказаться от мыслей о мести и повиноваться воле «власть имущих».
В многочисленных диалогах Электры с сестрой, с Орестом (когда она еще не знала, что перед ней стоит брат), отражается эмоциональное состояние главной героини, ее не утихающий бунтарский дух, ставший ключом к пониманию авторской интерпретации мифа об Атридах. Софокл позволяет зрителю будто бы заглянуть в душу своей героини - такими живыми он делает ее реплики. Становится понятно, что для автора «Электры» важен не столько закрученный и сложный сюжет, сколько детальность образов героев, их правдоподобие. Основной предмет изображения у Софокла - это чувства.
Сцена узнавания героев происходит не столь пышно, но более жизненно - Электра узнает брата по перстню отца. Они договариваются о том, как будут мстить, но и тут, несмотря на схожесть сюжетных линий с трагедией Эсхила, Софокл привносит ряд собственных элементов. Интересной деталью является то, что Орест просит свою сестру до поры до времени не раскрывать своих радостных чувств перед окружающими, чтобы никто - а главным образом, Клитемнестра и Эгисф - не заподозрили бы неладное, пока Орест будет готовить им месть. В конечном счете, Орест убивает мать, а затем и Эгисфа. И заключительный вывод, прозвучавший в последней реплике хора таков:
О Атреев, познавший все бедствия, род!
Наконец ты желанной свободы достиг, -
Осчастливленный нынешним делом.
Нужно сказать, что такая последовательность убийств (сперва Клитемнестру, а потом Эгисфа) встречается только у Софокла. Можно предположить, то подобный отказ от традиционного расположения сюжетных элементов отражает авторское желание показать, что для него этот порядок играет не столь главную роль, что для него значительно важнее раскрыть образ Электры.
Таким образом, видимо, Софокл не считает нужным продолжать дальнейшее развитие сюжета, как то сделал Эсхил, ведь своей главной цели он достиг - раскрыт многогранный и сложный характер главной героини. Сам же миф приобретает более бытовое и сниженное звучание в отличие от произведения Эсхила, однако богатство образов и художественных приемов позволяет назвать и Софокла великим греческим трагиком.
Еврипид
Еще одной древнегреческой трагедией, посвященной теме рода Атридов по праву считается «Электра» Еврипида, написанная в принципиально иной манере по сравнению с рассмотренными ранее произведениями. Очевидно, что Еврипид опирался на опыт предшественников, но он также проявил немало оригинальности в своей трактовке мифа об Атридах. Главным образом, в своей интерпретации автор ступает в полемику с Эсхилом. К тому же вопрос о том, какая «Электра» была написана раньше - Софокла или Еврипида, остается открытым.
Своеобразны образы уже известных нам персонажей. Особенно выделяется на общем фоне Электра, которая в трагедии Еврипида неожиданно оказывается женой простого пахаря. Эгисф, боящийся мести со стороны своих новых «родственников» придумывает весьма специфический способ оградить себя от опасности со стороны Электры - он выдает ее за простого человека без рода и имени, предполагая, что тот не станет мстить, поскольку, как простой человек из народа, не будет исполнен высоких чувств, не будет стремиться восстановить честь и знатность своей супруги.
Эгисф
Рассчитывал, что, обручив царевну
Ничтожному, он на ничто сведет
И самую опасность. Ведь, пожалуй,
Вельможный зять молву бы окрылил,
Он карой бы грозил убийце тестя... (реплика хора)
Своеобразно Еврипид вводит в произведение мотив узнавания героев: автор вступает в полемику с Эсхилом, подчеркивая наивность и несерьезность изображения встречи узнавания в трагедии «Плакальщицы». У Эсхила Электра узнает Ореста по одежде, которую некогда сам ткала. По мифу мы помним, что брат с сестрой расстались очень давно, поэтому было бы неразумно предположить, что с тех пор Орест не вырос или же не износил своей одежды. Эсхил допускает художественную условность, т.к. акцентирует свое внимание на других моментах произведения, но на основе этого в «Электре» Еврипида возникают следующие строки:
Старик
А если след сандалии сравнить
С твоей ногой, дитя, найдем ли сходство?
<…>
Скажи еще: работу детских рук,
Узнаешь ли Орестову одежду,
Которую ты выткала ему
Пред тем, как мне нести его в Фокиду?
В конечном счете, Ореста узнают по шраму, полученном еще в детстве. Возможно, в данном случае мы имеем дело со связью мотив узнавания у Еврипида и аналогичным у Гомера, ведь Одиссей тоже узнают по шраму. Таким образом, можно сказать, что в чем-то Еврипид, вступая в полемику с Эсхилом и Софоклом, обращался к древнему совершенному образцу - гомеровскому эпосу.
В трагедии Еврипида Электра проявляет по отношению к матери жестокость, хотя не приводит конкретных аргументов в защиту своей точки зрения. Она с презрением оценивает ее:
Что дети ей, ей были бы мужья…
Вместе с Орестом они стоят жестокий план расправы, причем Орест, не будучи еще узнанным, выясняет позицию сестры, и та прямо выражает свою готовность со словами: «Топор готов, и кровь отца не смыта».
В отличие от предыдущих драм, у Еврипида выходит так, что вся ответственность за грядущие убийства ложится на плечи Ореста и Электры, т.к. недостаточно аргументов, чтобы признать Клитемнестру виновной во всех бедах рода Атридов.
О наш отец, подземный мрак узревший,
Несчастием убитый, о земля -
Владычица, к тебе простерты длани,
Спаси детей царя - он нас любил. (реплика Ореста)
Сцена убийства Орестом Эгисфа изображается с поразительной точностью и с большим количество деталей:
И только что над сердцем
Внимательно склонился тот, Орест
На цыпочках приподнялся и нож
Царю всадил в загривок, а ударом
Ему хребет ломает. Рухнул враг
И заметался в муках, умирая. (реплика Вестника)
Электра же с неподдельным интересом выведывает подробности убийства Эгисфа. Остается лишь мать - Клитемнестра. Перед совершением убийства в Оресте пробуждаются чувства, он начинает сомневаться, так ли уж он прав, идя на страшное кровное убийство. Т.е. подразумевается, что герой Еврипида действовал не по воле богов, а по своему собственному убеждению.
Клитемнестра же в данном случае изображается в качестве наиболее здравомыслящего человека, способного объяснить причину своих поступков:
О, я бы все простила, если город
Иначе им не взять бы, если б дом
Или детей спасал он этой жертвой,
Но он убил малютку за жену
Развратную, за то, что муж не смыслил
Изменницу достойно наказать.
О, я тогда смолчала - я к забвенью
Готовила уж сердце и казнить
Атрида не сбиралась. Но из Трои
Менаду царь безумную привез
На брачную постель и стал в чертоге
Двух жен держать. О жены, наш удел -
Слепая страсть. Пускай неосторожно
Холодность муж нам выкажет, сейчас
Назло ему любовника заводим,
И нас же все потом во всем винят,
Зачинщиков обиды забывая...
Выразителем истины, в которой отражается авторская точка зрения, является Корифей, который так отвечает на речь Клитемнестры:
Да, ты права, но в правде - твой позор:
Нет, женщины, коли умом здоровы,
Мужьям во всем покорны, о больных
Я говорить не стану - тех со счетов...
Клитемнестра искренне сожалеет о содеянном, однако Электра остается неумолимой, как будто в ней нет ничего живого. «Она в руках детей - о, горький жребий!» - так ее положение характеризует автор. Автор акцентирует внимание на том, что все несчастия рода Атридов связаны не столько с роком, сколько с личной волей представителей этого же рода. Именно поэтому в эксоде звучит фраза:
Нет дома, нет несчастнее тебя,
Дом Тантала... злосчастней и не будет...
Орест переживает внутренние разногласия после совершенного убийства, подвергается суду. Автор лишь вкратце вводит историю суда и прощения Ореста, тогда как для Эсхила эта тема является темой целой трагедии. Таким образом, очевидно, что драматургическая трактовка мифа об Атридах у Еврипида существенно отличается от трактовок Эсхила и Софокла, что позволяет говорить о развитии театральной традиции, о появлении большого разнообразия героев.
Проблемы, которые поднимаются Еврипидом, воплощаются, на первый взгляд, как бытовые (чему способствует специфическая манера повествования, образы героев), хотя, разумеется, за подобной простотой скрывается глубокое авторское видение того, как устроена жизнь, какое место в ней отведено року и судьбе, а какое собственным решениям героев.
Выводы:
1) Эсхил, Софокл и Еврипид, жившие в одну эпоху, использовали схожий материал для создания своих произведений. Однако интерпретация различных мифов, в данном случае на примере мифа об Атридах, у каждого из авторов своя, и обусловлена она авторским видением проблем, поднимаемых в их произведениях, и художественными предпочтениями каждого из них.
2) Для Эсхила ключевым было понятие судьбы, хотя нельзя полностью отказать автору в попытках индивидуализации персонажей, но все же преимущественно герои действуют не по собственной воле, а по тому, какая им предназначена судьба, или же по тому, какой наказ от богов они получили. Так же можно с немалой долей вероятности предположить, что в третьей части трилогии «Орестея» автор стремился выразить свои социально-политические взгляды, отдав немалую роль в своей трагедии Ареопагу. Тут же можно говорить и о выражении нравственной позиции автора: Орест оправдан при равенстве голосов, можно говорить о вступлении суда совести, при котором решение вопроса «о пролитой крови» отдается Ареопагу. Трагедия Эсхила была созвучна тому времени, в которое создавалась. Так, интерпретация автора позволяет ему помимо непосредственно мифологических элементов привнести в произведение много личностного.
3) Для Софокла ключевым элементом трагедии об Электре становится детальное изображение одного образа, который практически не исчезает со сцены в течение всего действия трагедии. Игра контрастов позволяет Софоклу привнести в литературу новые приемы изображения образов, показать, что миф вовсе не ограничивает рамки произведения и широту раскрытия образов.
4) Для Еврипида наиболее характерен новаторский подход при интерпретации мифа, т.к. он дальше всех отходит от традиционной трактовки мифа об Атридах. Но вместе с тем он привносит много нового в трагедию в целом, ведь даже на уровне трагедии «Электра» можно заметить повышенный интерес не столько к социальным проблемам, сколько к проблемам конкретной личности. Понятие рока и судьбы отходит на второй план, герои становятся более самостоятельными.
В работе были использованы следующие переводы произведений:
Эсхил «Орестея» - Вяч. Иванов.
Софокл «Электра» - С. Шервинский.
Еврипид «Электра» - И. Анненский
Зарождение трагедии. Уже в дифирамбах Ариона, по свидетельству древних, присутствовал диалог корифея и хора, изображавшего козлоногих сатиров - спутников Диониса. Из дифирамба рождается жанр трагедии (от гр. «трагос » - козел, «оде » - песнь). У Феспида и Фриниха, чьи произведения не сохранились, трагедия, очевидно, еще близка к дифирамбу. Феспид первым вводит в дифирамб актера, комментирующего песни, создавая основу трагедии как жанра. Фриних, Херил (как и Эсхил) первыми используют для трагедии не мифологический, а исторический сюжет (о победах греков в персидских войнах). Пратин приспосабливает к сцене жанр сатировской драмы.
В конце VI-V вв. до н.э. в Афинах, на чашеобразном склоне Акрополя, возводится театр Диониса (сначала из дерева, в IV в. до н.э. из камня) на 17 тысяч зрителей, т.е. для всего населения города. Здесь начинается проведение ежегодных театральных состязаний в честь Диониса. Первоначально они проходили в Великие Дионисии - в марте, со второй половины V в. до н.э . и в праздник Леней - в январе. В первый день представлялось пять комедий, во второй, третий и четвертый - по одной тетралогии. Во второй, третий и четвертый день в состязаниях участвовало по три драматурга , каждый готовил для состязаний тетралогию - цикл из четырех пьес (трех трагедий и завершающей сатировской драмы, где хор изображал спутников Диониса - сатиров), ставил свои произведения и первоначально сам исполнял роль протагониста - главного героя. Это точно известно относительно Феспида, Фриниха, Эсхила. Отметим, что Софокл добился всенародного признания как выдающийся актер. Десять судей определяли победителя. Сохранились списки таких состязаний за ряд лет. Всего за 240 лет развития этого жанра только значительными трагиками было создано более 1500 трагедий. Но из произведений древнегреческих трагиков до нас дошли только 7 трагедий Эсхила (в том числе одна трилогия - «Орестея»), 7 трагедий и отрывки одной сатировской драмы Софокла, 17 трагедий и одна сатировская драма Еврипида (авторство еще одной трагедии оспаривается).
Трагедия состояла из пролога, парода (вступительной песни хора, выходящего на орхестру - круглую площадку перед скеной - зданием, на возвышенной площадке перед которым - проскении - актеры разыгрывали представление), трех или четырех эписодиев (действий), стасимов (песен хора между эписодиями ), эпода (финал с заключительной песней и уходом хора). Парод и стасимы делились на строфы и сходные с ними антистрофы (под них хор двигался по орхестре то в одну, то в другую сторону). В трагедиях также могли быть монологи героя, коммос (совместный плач хора и героя), гипорхема (песнь хора в кульминации, перед тем как разражается катастрофа).
Эсхил. Эсхил (525 - 456 до н.э.) - «отец трагедии». Эсхил ввел в представление второго актера и тем самым определил специфику трагедии как драматического произведения и ведущую роль в ней действия (позже, по примеру Софокла, стал вводить и третьего актера). Был участником битв при Марафоне и Саламине. Предание связывает со второй битвой судьбы трех великих трагиков: Эсхила в числе победителей приветствовал юный Софокл, певший в хоре, а Еврипид в это время родился на острове Саламине. С 500 г. до н. э. Эсхил принимал участие в состязаниях трагиков и одержал в них 13 побед. До нас дошло полностью 7 его трагедий: «Персы» (о победе афинян над персами при Саламине), «Семеро против Фив » (о походе Полиника против родного города, из трилогии об Эдипе), «Просительницы, или Молящие » (из трилогии о Данаидах), представленная в 458 г. до н. э. трилогия «Орестея» (трагедии «Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды » - об убийстве Орестом своей матери Клитемнестры как мести за совершенное ею убийство своего мужа Агамемнона, суде над Орестом, преследуемым эриниями - богинями мести, и его очищении от содеянного), «Прометей Прикованный » - самая знаменитая из трагедий, сделавшая образ Прометея, восставшего против тирании Зевса, вечным образом мировой литературы (произведения Гёте, Шелли и др.). Концепция трагического у Эсхила основана на вере в закон мировой справедливости, нарушение которого приводит к несчастьям и гибели. Его герои поразительно цельны, монументальны.
Софокл. Софокл (496 - 406 до н.э.) - второй великий греческий трагик, в 486 г. до н.э. победивший в состязании Эсхила, 24 раза занимавший первое и ни разу не занимавший последнего третьего места. Софокл был соратником Перикла, при котором Афины достигли небывалого расцвета, участвовал в военных действиях в качестве стратега (военачальника). До нас дошли 7 его трагедий («Аякс», «Трахинянки», «Эдип-царь», «Эдип в Колоне», «Антигона», «Электра», «Филоктет »), 400 стихов из его сатировских драм «Следопыты» и «Похищение коров мальчиком Гермесом», некоторые другие отрывки. Софокл ввел третьего актера, декорации, уменьшил роль хора, пренебрегая трилогической композицией, увеличил законченность каждой трагедии. Главный персонаж Софокла не бог, а сильный человек. Характер главного героя определяет действие в значительно большей мере, чем у Эсхила. Софокл уделяет пристальное внимание мотивировке поступков героев. На первый план выходит не проблема рока, а проблема нравственного выбора. Так, Антигона в одноименной трагедии, повинуясь нравственному долгу, принимает решение похоронить тело брата, несмотря на запрет властей. Тем самым она сама выбирает свою судьбу, что является главным признаком трагического героя.
Самая знаменитая трагедия Софокла - «Эдип-царь » (429 г. до н. э.). Аристотель считал эту трагедию наиболее совершенным примером использования трагических перипетий - переходов от счастья к несчастью и наоборот. Здесь наиболее полно реализована идея трагической вины героя.
Действие начинается в Фивах, на площади перед царским дворцом. Город поразил страшный мор. Выясняется, что боги сердятся на город за то, что в нем живет некий человек, убивший своего отца и женившийся на своей матери. Царь Эдип отдает распоряжение отыскать этого преступника. Но в результате расследования выясняется, что преступление совершил он сам, хотя и по неведению. Тогда Эдип ослепляет себя в наказание за когда-то содеянное, и отказывается от фиванского престола.
В трагедии использована ретроспективная композиция: истоки событий лежат не в настоящем, а в прошлом.
Герой пытался бороться с судьбой, роком: узнав от оракула о том, что он может убить отца и жениться на матери, он бежал от своих родителей, не подозревая, что они не родные ему. По дороге в Фивы Эдип совершил случайное убийство, а по прибытии в этот город, который он спас от Сфинкса, отгадав его загадку, принял предложение править им и взять в жену царицу-вдову. Только теперь, в рамках сценического времени, он понял, что тем самым все же осуществил предсказание.
Эдип не может бороться с роком, но он может принять нравственное решение и наказать себя.
Еврипид. Еврипид (480 или 485/4-406 до н.э.) - младший из трех великих греческих трагиков, получивший наибольшее признание в последующие эпохи. Однако современники его ценили значительно меньше: из написанных и поставленных им 22 тетралогий только четыре были удостоены первого места. До нас дошли его сатировская драма «Киклоп» и 17 трагедий, из которых наиболее знамениты «Медея» (431 г. до н.э.), «Ипполит увенчанный» (428 г. до н.э.), а также «Гекуба», «Андромаха», «Троянки», «Электра», «Орест», «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде». Если Софокл показывал людей, какими они должны быть, то Еврипид - такими, какие они есть. Он значительно усилил разработку психологических мотивов, основное внимание уделив психологическим противоречиям, которые заставляют героев совершать неправильные поступки, приводящие их к трагической вине и - как следствие - к несчастьям и гибели. Аристотель считал Еврипида «наиболее трагическим поэтом». Действительно, ситуации, в которые попадают его герои, нередко настолько безвыходны, что Еврипиду приходится прибегать к искусственному приему deus ex machina (букв, «бог из машины» ), когда все разрешают появившиеся на сцене боги. Герои и сюжеты трагедий Еврипида лишены эсхиловской цельности, софокловской гармоничности, он обращается к маргинальным страстям (любовь Федры к пасынку), неразрешимым задачам (отец должен принести в жертву свою дочь), неоправданно жестоким поступкам (Медея убивает своих детей, чтобы отомстить охладевшему к ней Ясон у). Его герои доходят до исступления. Гекуба, потерявшая детей, опускается на землю и стучит кулаками, чтобы ее услышали боги подземного царства. Тесей , проклиная ни в чем не повинного Ипполита, требует от богов исполнить его желание и убить сына. Несомненно, на представлениях трагедий Еврипида зрители в большей степени, чем на представлениях трагедий его предшественников, должны были испытать катарсис.
Теория трагедии. «Поэтика» Аристотеля. Опыт великих трагиков V в. до н. э. позволил в следующем веке теоретически осмыслить жанровую природу трагедии. Создание теории трагедии связано с именем одного из величайших философов древности - Аристотеля Стагирита (384-322 до н.э.). В его труде «Поэтика» (дошла только первая часть из 26 глав, посвященная трагедии, от второй части, посвященной комедии, сохранились лишь отрывки) дается определение жанра: «...Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем (подражание), при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной, посредством действия, а не рассказа, совершающее, благодаря состраданию и страху, очищение подобных аффектов».
В этом определении есть два ключевых понятия: мимесис (подражание ) и катарсис (очищение).
Мимесис - важнейший термин аристотелевской концепции искусства, развившийся из учений Пифагора (ок. 570 - ок. 500 до н.э.) о музыке как подражании небесной гармонии и учителя Аристотеля - Платона (428 или 427-348 или 347 до н.э.) о видимом мире как подражании идеям и об искусстве как подражании подражанию. Аристотель видит в стремлении к подражанию общее свойство живых существ, и прежде всего людей.
О мимесисе существует большая литература . Это понятие стало одним из основных в эстетике классицизма, и было подвергнуто критике Кантом и Гегелем, а также Шеллингом и другими романтиками. Ему было противопоставлено учение о выражении (т. е. о примате субъективности художника) как сущности искусства. Однако мимесис обычно трактовался прямолинейно - как воспроизведение, копирование действительности или каких-либо ее частей. Между тем Аристотель, называя предметом мимесиса в трагедии действие (даже не само по себе, а в выявленных и выстроенных искусством элементах: не события, а фабула, не люди, а актеры, не совокупность мыслей, а образ мыслей, т. е. мотивация действий) способом подражания считает сценическую обстановку, а средствами - словесное выражение (напомним: не обыденная речь, а «в каждой из своих частей различно украшенная» ) и музыкальную композицию, т. е. такие, которые не имеют отношения к простому копированию, зато обладают спецификой собственно художественных форм. Учитывая телеологическую установку Аристотеля (его представление о развитии мира как движении к конечной цели), мы можем со всей определенностью указать на то, что мимесис в трагедии - лишь исходное средство для достижения промежуточной цели: вызвать у зрителей чувства страха и сострадания , а она, в свою очередь, позволяет достигнуть конечной цели - катарсиса.
Это загадочное понятие, не разъясненное Аристотелем, впоследствии получило не только эстетическую (связано с эстетическим наслаждением), но и этическую (воспитывает зрителя), психиатрическую (дает душевное облегчение), ритуальную (исцеляет подобным), интеллектуальную (освобождает от ошибочного мнения) и другие трактовки. В определении трагедии говорится лишь о трагическом катарсисе, т. е. таком, который достигается посредством переживания страха и сострадания (очевидно, герою). И катарсис все же, по логике, не окончательная цель трагедии . Очистившись от «подобных аффектов», или страстей (видимо, не от страха и сострадания, а от тех, из-за которых герой попал в трагическую ситуацию и которые породили его трагическую вину), человек может вернуться в общество, соединиться с достойными людьми, ведь он теперь равно с ними «очищен». Таков, очевидно, невысказанный итог размышлений Аристотеля о воздействии трагедии на человека.
АНТИЧНАЯ ДРАМА Античная драма ЭСХИЛ ПЕРСЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ПАРОД ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ СТАСИМ ПЕРВЫЙ ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ СТАСИМ ВТОРОЙ ЭКСОД ПРОМЕТЕЙ ПРИКОВАННЫЙ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ПРОЛОГ ПАРОД ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ СТАСИМ ПЕРВЫЙ ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ СТАСИМ ВТОРОЙ ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ СТАСИМ ТРЕТИЙ ЭКСОД СОФОКЛ ЭДИП-ЦАРЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ПРОЛОГ ПАРОД ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ СТАСИМ ПЕРВЫЙ ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ КОММОС СТАСИМ ВТОРОЙ ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ СТАСИМ ТРЕТИЙ ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ СТАСИМ ЧЕТВЕРТЫЙ ЭКСОД КОММОС АНТИГОНА ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ПРОЛОГ ПАРОД ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ СТАСИМ ПЕРВЫЙ ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ СТАСИМ ВТОРОЙ ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ СТAСИМ ТРЕТИЙ ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ КОММОС СТАСИМ ЧЕТВЕРТЫЙ ЭПИСОДИЙ ПЯТЫЙ СТАСИМ ПЯТЫЙ (ГИПОРXЕМА) КОММОС ЕВРИПИД МЕДЕЯ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ПРОЛОГ ПАРОД ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ СТАСИМ ПЕРВЫЙ ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ СТАСИМ ВТОРОЙ ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ СТАСИМ ТРЕТИЙ ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ СТАСИМ ЧЕТВЕРТЫЙ ЭПИСОДИЙ ПЯТЫЙ ЭПИСОДИЙ ШЕСТОЙ СТАСИМ ПЯТЫЙ ЭКСОД ИППОЛИТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ПРОЛОГ ПАРОД ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ СТАСИМ ПЕРВЫЙ ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ КОММОС СТАСИМ ВТОРОЙ ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ КОММОС СТАСИМ ТРЕТИЙ ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ СТАСИМ ЧЕТВЕРТЫЙ ЭКСОД АРИСТОФАН ОБЛАКА ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ПРОЛОГ ПАРОД ПАРАБАСА ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ АГОН ПЕРВЫЙ ЭПИСОДИЙ ПЯТЫЙ ЭПИСОДИЙ ШЕСТОЙ ЭПИСОДИЙ СЕДЬМОЙ ЭПИСОДИЙ ВОСЬМОЙ АГОН ВТОРОЙ МИР ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ПРОЛОГ ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ ПАРОД ПАРАБАСА ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ МАЛАЯ ПАРАБАСА ЭПИСОДИЙ ПЯТЫЙ ЭПИСОДИЙ ШЕСТОЙ ЭКСОД МЕНАНДР БРЮЗГА ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ ТИТ МАКЦИЙ ПЛАВТ ДВА МЕНЕХМА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ПРОЛОГ ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ СЦЕНА ПЕРВАЯ СЦЕНА ВТОРАЯ СЦЕНА ТРЕТЬЯ СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ СЦЕНА ПЕРВАЯ СЦЕНА ВТОРАЯ СЦЕНА ТРЕТЬЯ ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ СЦЕНА ПЕРВАЯ СЦЕНА ВТОРАЯ СЦЕНА ТРЕТЬЯ ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ СЦЕНА ПЕРВАЯ СЦЕНА ВТОРАЯ СЦЕНА ТРЕТЬЯ ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ СЦЕНА ПЕРВАЯ СЦЕНА ВТОРАЯ СЦЕНА ТРЕТЬЯ СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА ПЯТАЯ СЦЕНА ШЕСТАЯ СЦЕНА СЕДЬМАЯ СЦЕНА ВОСЬМАЯ ПУБЛИЙ ТЕРЕНЦИЙ АФР ДЕВУШКА С АНДРОСА ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ПРОЛОГ ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ СЦЕНА ПЕРВАЯ СЦЕНА ВТОРАЯ СЦЕНА ТРЕТЬЯ СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА ПЯТАЯ ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ СЦЕНА ПЕРВАЯ СЦЕНА ВТОРАЯ СЦЕНА ТРЕТЬЯ СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА ПЯТАЯ СЦЕНА ШЕСТАЯ ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ СЦЕНА ПЕРВАЯ СЦЕНА ВТОРАЯ СЦЕНА ТРЕТЬЯ СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА ПЯТАЯ ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ СЦЕНА ПЕРВАЯ СЦЕНА ВТОРАЯ СЦЕНА ТРЕТЬЯ СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА ПЯТАЯ ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ СЦЕНА ПЕРВАЯ СЦЕНА ВТОРАЯ СЦЕНА ТРЕТЬЯ СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА ПЯТАЯ СЦЕНА ШЕСТАЯ ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА ОКТАВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА СЦЕНА ПЕРВАЯ СЦЕНА ВТОРАЯ СЦЕНА ТРЕТЬЯ СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ СЦЕНА ПЯТАЯ СЦЕНА ШЕСТАЯ СЦЕНА СЕДЬМАЯ СЦЕНА ВОСЬМАЯ СЦЕНА ДЕВЯТАЯ
АНТИЧНАЯ ДРАМА
Античная драма
От Эсхила, которым открывается этот том, до Сенеки, который его завершает, прошло добрых пять веков - время огромное. И в сознании любого, кто мало-мальски знаком с крупнейшими писателями разных эпох и народов, два этих имени обладают, конечно, далеко не одинаковым весом. Когда говорят: «Эсхил», - сразу возникает у одних смутный, у других более или менее четкий образ «отца трагедии», образ почтенно-хрестоматийный, даже величественный, представляются мрамор античного бюста, свиток рукописи, актерская маска, залитый южным, средиземноморским солнцем амфитеатр. И сразу же память подсказывает еще два имени: Софокл, Еврипид. Но Сенека? Если тут и возникнут какие-то ассоциации, то, во всяком случае, не театральные: «Ах да, это тот, который вскрыл себе вены по приказу Нерона…» Справедлива ли такая несоизмеримость посмертной писательской славы Эсхила и Сенеки? Да, справедлива, вне всяких сомнений. После проверки веками - а тем более тысячелетиями - произвола в отборе самых значительных культурных ценностей в общем-то не бывает.
Почему же, несмотря на то, что Эсхил жил в V веке до н. э. в Греции, а Сенека в I веке н. э. в Риме, и несмотря на то, что один оставил в памяти потомства очень глубокий след, а другой как драматург - след слабый, поверхностный, оба оказались под одним переплетом? По праву ли они встретились? Да, по праву. Книга наша называется «Античная драма», а античная драма, если смотреть на нее нашими, сегодняшними глазами, с расстояния в две тысячи лет, - это все-таки одно целое, спаянное не только общими историческими предпосылками - рабовладельческим строем, языческой мифологией, - но и чисто литературной преемственностью, которая состояла в заимствовании и развитии технических приемов, в подражании предшественникам или их пародировании, в полемике с ними и порой даже, говоря нынешним языком, в «личных контактах». Известно, например, что Эсхил и Софокл выступали со своими трагедиями на одних и тех же состязаниях и оспаривали друг у друга первый приз. При всех различиях эпох и талантов, расцвета и упадка, при диаметральной, казалось бы, противоположности трагедии и комедии, при разноязычии греков и римлян, при том, что от одних авторов до нас дошла лишь малая часть написанного, а от других вообще ничего не дошло, - при всем при этом античная драматургия представляется нам сегодня тугим клубком, где скрыты концы нитей, тянущихся ко всем позднейшим победам европейского драматургического гения - и к Шекспиру, и к Лопе де Вега, и к Мольеру, и к Островскому.
Как завязался этот клубок, с чего все началось? Достаточно один раз прочесть любую трагедию Эсхила, чтобы почувствовать в ней какую-то старую культуру зрелищ и лицедейства. Прежде всего бросается в глаза непременное присутствие хора - особенность, на современный взгляд, странная. А потом, вчитываясь, замечаешь, что без хора, пожалуй, и действие не двигалось бы: в одном случае не получилось бы диалога, в другом - не было бы необходимой для понимания происходящего экспозиции, в третьем - и это самое поразительное - вообще не было бы главного действующего лица, потому что хор как раз и есть тот герой, вокруг которого вертится драма. И еще замечаешь, читая Эсхила, что партии хора подчинены каким-то своим композиционным правилам и правила эти разработаны весьма изощренно. Хор поет и в начале, когда появляется перед зрителями, и в середине пьесы, когда актеры уходят, и в конце ее, покидая свою площадку - орхестру. Все эти выступления хора имеют даже особые названия - народ, стасим, эксод. - Бросается в глаза и еще одна закономерность: песни хора обычно состоят из парных частей, и вторая («антистрофа») повторяет ритм первой («строфы») на новом тексте. Такая тонкая механика не возникает на голом месте. За ней легко угадывается традиция, и даже если бы мы не располагали античными свидетельствами о происхождении трагедии и о Фринихе, предшественнике Эсхила, первостепенная роль хора и сложная система хоровых партий в эсхиловском театре натолкнули бы нас на мысль, что «первым» Эсхила можно назвать только условно, и указали бы нам на хор как на отправную точку для поисков, которые привели бы к истокам трагической драмы. А сравнивая огромное значение хора в эсхиловских трагедиях с его ролью у поэтов следующего поколения - Софокла и особенно Еврипида, - о которых кто-то, пусть с долей преувеличения, сказал, что их можно без всякого ущерба для понимания смысла читать, пропуская хоровые партии, - еще отчетливее видишь, что хор в трагедии - это ее самое древнее, самое архаичное, самое близкое к началам драмы ядро.
Театр, оживающий на страницах нашего сборника, даже и самый ранний, эсхиловский, - это театр людей уже цивилизованных, обладающих и письменностью, и высокой литературной и музыкальной культурой. Именно культура и сделала возможным тот качественный скачок, каким был переход от обрядовых песен в честь бога Диониса к профессионально подготовленному представлению. Слово «трагедия» значит в переводе «козлиная песнь». Сам по себе перевод еще ничего не объясняет, и поныне существуют разные его толкования, в основе которых, однако, всегда лежит идущая от греков убежденность в том, что родил трагедию культ Диониса, считавшегося покровителем виноградарства и символом животворных сил природы. В честь Диониса издавна устраивались пьяные шествия. Участники этих процессий изображали пастухов - свиту Диониса, они надевали козьи шкуры, вымазывали себе лица виноградным суслом, пели, плясали, славили своего хмельного бога, которого иногда тоже представлял один из ряженых, и завершали обряд жертвоприношением козла. Козьи шкуры на бедрах и спинах «пастухов», козел как традиционный дар Дионису, не говоря уж об известных мифических спутниках этого бога - козлоногих сатирах, - о да, если все началось с дионисийского культа, то, право же, было достаточно причин, чтобы древнейший жанр драматургии получил свое не очень-то на поверку красивое имя.
Как выделились из хора ряженых запевалы-солисты, как вместо Диониса главными фигурами действа становились другие боги, а вместо богов и наряду с ними - герои мифов, как усложнялось, все больше удаляясь от культовой своей первоосновы, драматическое представление, это не так уж трудно вообразить, а это и есть путь от обрядовых песен к литературной трагедии, зачинателем которой считается Феспид (VI в. до н. э.). Однако, и став литературой, трагедия продолжает развиваться в том же направлении: она становится все более светской, хоровое пенье занимает в ней сравнительно с диалогом все меньше места, среди ее персонажей появляются не только мифические герои, но и реальные исторические лица, такие, например, как персидские цари Ксеркс и Дарий. Она почти обрывает пуповину, связывающую ее с дионисийскими песнями, с религиозным культом.
Но только почти! Если пристальней к ней приглядеться, то полностью она этой пуповины на греческой почве так и не оборвет. Вплоть до Еврипида обязательной принадлежностью театрального реквизита останется жертвенник, а непременной темой трагедийного хора - величание богов; вплоть до Еврипида, и даже чаще всего именно у него, герои и боги будут прибывать к месту действия на колесницах, происходящих от той полуповозки-полуладьи, на которой в особые праздники приезжал в Афины «сам» Дионис, так же примерно, как приезжает сегодня у нас в какой-нибудь детский сад «сам» дед-мороз. И всегда, всегда представления в античных Афинах будут даваться только по праздникам в честь Диониса, два раза в году, зимой и весной, даже если темы драм не будут иметь к этому богу уже ни малейшего отношения.
То, во что нам сегодня нужно пристально вглядываться, было у современников трех великих греческих трагиков всегда на виду. И косность, с какой театральные зрелища допускались лишь на Дионисии и Леней, родила в Афинах пословицу: «При чем тут Дионис?» Насмешливый этот вопрос удивительно меток и заразителен. Он ясно указывает на то, что в эпоху расцвета трагедии сохраненные ею следы богослужебного ритуала воспринимались как пережиток, а нас, отделенных от мира, где верили в богов и героев, толщей веков, этот вопрос прямо-таки призывает расширить его смысл и увидеть за туманной подчас мифологической оболочкой трагедии живую, земную жизнь.
С самой начальной поры греческой драмы земные дела входили в нее и без посредничества мифологии. Афинский театр V века до н. э., и трагический - Эсхила, Софокла, Еврипида, и комический - Аристофана, всегда занимался самыми животрепещущими вопросами политики и морали, это был очень гражданственный, очень тенденциозный театр, сознававший свою воспитательную, наставническую роль и гордившийся ею. И есть, нам кажется, какая-то поучительная закономерность в том факте, что первой доэсхиловской драмой, о которой до нас дошли более или менее связные и подробные сведения, оказалась трагедия Фриниха «Взятие Милета», написанная на злободневную тему, под свежим впечатлением только что отшумевших событий.
История с Фринихом заслуживает того, чтобы ее здесь рассказать, потому что она предвосхищает важные черты театральной жизни своего века. В 494 году до н. э. персы разрушили город Милет - греческую колонию в Малой Азии, восставшую против их господства. Через год, в 493 году до н. э., Фриних поставил в Афинах трагедию о разгроме милетцев и был оштрафован афинскими властями на тысячу драхм на том основании, что своим сочинением довел зрителей до слез, напомнив им о, так сказать, общенациональной беде. А трагедию эту запретили когда-либо ставить. Сентиментальная и наивная, казалось бы, мотивировка запрета в действительности маскировала страх перед агитационной силой пьесы, страх тех, кто чувствовал себя ответственным за недостаточную помощь милетцам и вообще за неподготовленность к отпору персам в момент, когда угроза их вторжения в Грецию приобретала все большую реальность. В тот год, когда Фриних поставил «Взятие Милета», на высокий пост архонта в Афинах был избран Фемистокл, государственный деятель, понимавший неизбежность войны с персами и ратовавший за строительство военного флота. Но Фемистокла вскоре отстранили от власти, он приобрел политический вес лишь через десять лет, и тогда началось усиленное строительство афинского флота, который и победил персов при острове Саламине в 480 году до н. э. А еще через четыре года, уже в зените своей политической славы, Фемистокл на собственные средства поставил трагедию того же Фриниха «Финикиянки», где воспевалась эта победа при Саламине. «При чем тут Дионис?»
Ни «Взятие Милета», ни «Финикиянки» до нас не дошли; первым по времени трагиком, чьи драмы мы можем читать и сейчас, был Эсхил (524–456 гг. до н. э.), от произведений которого, как и от произведений Софокла (496–406 гг. до н. э.) и Еврипида (480–406 гг. до н. э.), хоть малая часть, а все-таки сохранилась. Фриних, следовательно, - лишь предыстория трагического театра, но предыстория знаменательная, основополагающая. Этот театр теснейшим образом связан с общественной жизнью своего времени, с идейными его веяниями и политическими передрягами.
Что же это была за эпоха в Элладе, прославленный V век до н. э.? Мы уже знаем, что начиналась она под знаком войны. Греция представляла собой тогда не единое государство, а несколько самостоятельных городов, каждый из которых возглавлял примыкавшую к нему область как ее административный и торговый центр. Говорили во всех этих городах-государствах (их называли н называют полисами) на разных диалектах одного и того же языка - греческого. У каждого города имелись свои, местные предания, своп боги-покровители и герои, но система религиозно-мифологических представлений была в общем везде одна, запечатленная с наибольшей полнотой гомеровскими поэмами. Самой развитой общественной и культурной жизнью по сравнению с другими полисами жили в то время Афины, крупнейший греческий порт, столица богатой оливковым маслом и вином Аттики. Афины и возглавили общеэллинскую войну с персами и, выиграв ее, еще пышнее отстроились, демократизировали свои политические учреждения, достигли огромных успехов в развитии искусств. Разумеется, афинская демократия была демократией рабовладельческой, и если вождь ее, Перикл, говорил, что государственный строй афинян «называется демократическим потому, что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве народа», что афиняне «живут свободной политической жизнью в государстве и не страдают подозрительностью в повседневной жизни», то, читая эти патетические слова, не следует забывать, что рабов в Афинах было куда больше, чем свободных граждан. Демократизация политических учреждений означала лишь более широкое участие в них мелких свободных собственников, постепенно избавившихся от гнета знати. Но духовный климат Афин был все же совершенно иным, чем, например, в Спарте с ее более суровым бытом и более грубыми нравами, не говоря уж о Персии, где принято было падать ниц перед царями и их сатрапами.
Общеэллинский патриотический подъем, сопровождавшийся в Афинах расцветом культуры, не уничтожил, естественно, всякого рода противоречий ни внутри полисов, в том числе и внутри Афин, ни издавна существовавших между полисами, особенно между Афинами и Спартой; и внутренние противоречия, как это всегда бывает, становились из-за внешнеполитического неблагополучия только острее и обнаженнее. Начавшаяся в 431 году до н. э., через неполные пятьдесят лет после саламинской победы над персами, внутриэллинская, названная Пелопоннесской, война разбила Грецию на два, как мы теперь сказали бы, блока - афинский и спартанский. Война эта затянулась надолго, она закончилась через два года после смерти Еврипида, в 404 году до н. э., поражением Афин и нанесла греческой демократии сильнейший удар. По требованию спартанского военачальника Лисандра вся власть в Афинах перешла к комитету тридцати, установившему жестокий террористический режим. Сильнейший удар был нанесен и искусству, и в первую очередь самому доступному и самому гражданственному его виду - театру.
Даже этот краткий набросок исторических событий V века до н. э. позволяет выделить в них три этапа: становление греческих городов-государств и эллинского самосознания в ходе патриотической войны с Персией; затем, главным образом в Афинах, расцвет общественной жизни и культуры и в связи с этим нравственное развитие личности; наконец, утрата национальной сплоченности, идейный разброд и неизбежные при таких условиях ослабление моральных устоев, переоценка казавшихся незыблемыми этических норм.
И так как великих греческих трагиков тоже три и Эсхил старше Софокла, а Софокл - Еврипида, то, пожалуй, довольно-таки соблазнительно «увязать» каждого с соответствующим этапом, тем более что материал в пользу такой схемы в трагедиях всех троих можно найти. Часто историки литературы и поддавались этому соблазну симметрии и стройности. Но в реальной жизни, к которой художник всегда чутко прислушивается, разные, порой даже противоположные тенденции существуют одновременно, и Еврипид, например, как мы увидим, был не меньшим греческим патриотом, чем Эсхил, хотя и жил во времена внутригреческой распри, а Эсхил, хотя и изображал главным образом волевых, несгибаемо сильных людей, не был глух и к темным, патологическим сторонам человеческой натуры, которые вообще-то считаются специальностью Еврипида. Мало того что симметричная схема не учитывает ни многогранности жизни, ни индивидуальных особенностей дарования, которые определяют интерес писателя к тем, а не к другим ее граням, механическое распределение трех трагиков по трем ступеням истории требует и известной хронологической натяжки., В год смерти Эсхила Софоклу исполнилось сорок лет, а этот возраст, надо заметить, считался у греков вершиной развития человеческих способностей, так что назвать двух первых трагиков современниками есть все основания. Правда, нам могут возразить, что Софокл пережил Эсхила на целых пятьдесят лет. Но ведь и Еврипид пережил его ровно на столько же и умер, кажется, даже чуть раньше Софокла, однако герои Софокла, как мы увидим, гармоничны, величественны и благородны, а еврипидовские истерзаны страстями, поглощены иногда семейными неурядицами и обитают порою не во дворцах, а в хижинах. Конечно, время неизбежно вторгается в книги и накладывает на них свой отпечаток. Но, говоря о художниках, нужно, помимо общеисторических перемен, помнить и о своеобразии каждого таланта, о том, что на смену одним литературным приемам, развивая и совершенствуя их, приходят другие, что искусство не терпит повторения уже сказанного предшественниками.
Возникновению этой стройной трехступенчатой схемы в оценке великих трагиков очень способствовала скудость наших фактических данных об их жизни и творчестве, несоизмеримость малого числа дошедших до нас драм с числом ими написанных. Из античных источников известно, например, что победа молодого Софокла во время его выступления на состязании трагиков в 468 году до н. э. настолько обидела Эсхила, что тот вскоре уехал из Афин на остров Сицилию. Такое свидетельство дает как будто пищу для умозаключений, подтверждающих распространенную схему: «Ну конечно, иные времена - иные нравы, Эсхил уже устарел, он не сумел откликнуться на новые запросы зрителей, и ему ничего не оставалось, как уступить дорогу Софоклу». Но вот в 1951 году среди других текстов Оксиринхского папируса был опубликован фрагмент, из которого явствует, что Эсхилу все-таки удалось победить и Софокла: он получил первый приз за свою трагедию «Просительницы» на том же состязании, где Софоклу достался только второй. И сразу рушатся всякие поспешные построения, и лишний раз обнаруживается уязвимость и хрупкость всяческих схем.
Что было, при всех их различиях, несомненно присуще всем драматическим поэтам V века до н. э. - и трагикам и Аристофану? Убежденность в том, что поэт должен быть учителем народа, его наставником. Воспитательно-просветительную роль театра в те времена сейчас трудно даже себе представить. Не было книгопечатания, не существовало ни газет, ни журналов, и если не считать официальных народных собраний и неофициальных рыночных сборищ, театр представлял собой единственное средство массовой информации. Афинский театр Диониса вмещал около семнадцати тысяч зрителей - столько людей, сколько сегодня средней руки стадион, почти все взрослое население тогдашних Афин. Никакой оратор, никакая рукопись не могли рассчитывать на такое количество слушателей и читателей. При Перикле для беднейшего населения было введено государственное пособие на оплату театральных мест, так называемое «теорикон» (в переводе: «зрелищные деньги»). Представления происходили, правда, только по праздникам, но начинались утром, а кончались с заходом солнца и растягивались на несколько дней. Искусство авторов оценивалось специально избираемыми судьями, первый приз означал для поэта победу, второй - умеренный успех, а третий - провал. Перечень таких красноречивых подробностей можно продолжить, но не ясно ли уже и так, что каждое драматическое состязание было событием не только для виновников торжества - авторов, но и для всего города, что само значение, сама постановка театрального дела обязывали поэта к величайшей взыскательности, к сознанию своей высокой гражданской миссии?
Что греческие драматурги действительно относились к своей работе как к педагогическому служению, подтверждается рядом античных свидетельств. «Как наставники учат мальчишек уму, так людей уже взрослых - поэты», - этот стих в своей комедии «Лягушки» вложил в уста Эсхила Аристофан, его почитатель и сам великий театральный поэт. Об Еврипиде античность сохранила одну историю, может быть, и анекдотическую, но, как всякий хороший анекдот, схватывающую самую суть явления. Зрители будто бы потребовали от Еврипида, чтобы он выкинул из своей трагедии какое-то место, и тогда поэт вышел на сцену и заявил, что пишет не для того, чтобы учиться у публики, а чтобы ее учить. Что касается Софокла, то он, по сведениям Аристотеля, говорил, что «изображает людей такими, какими они должны быть, а Еврипид такими, каковы они на самом деле». «Какими они должны быть»! В самой этой волеизъявительной формуле слышится назидание, и если Еврипид называл себя учителем народа, то Софокл, судя по этим словам, считал себя им в еще более точном и более требовательном смысле.
Уроки, которые давали поэты зрителям, от автора к автору усложнялись, опираясь на преподанное предшественниками. До Эсхила, как утверждают, кроме хора и предводителя хора, в действии участвовал только один актер, а Эсхил ввел второго, после чего Софокл - третьего. Идеи перенимались, обогащались и развивались, разумеется, не так просто и непосредственно, как чисто профессиональный технический опыт, но определенная преемственность, безусловно, существовала и тут.
Эсхил будто бы назвал свои трагедии крохами с пиршественного стола Гомера. Скромную эту самооценку нужно, по-видимому, понимать только так, что сюжеты для своих произведений Эсхил, как затем и другие трагики, черпал в мифологии, а самым обильным источником мифологических историй были «Илиада» и «Одиссея». Ведь мифологические образы гомеровского эпоса трагедия переосмыслила, соотнеся их с эпохой куда более сложных и развитых общественных отношений. Не патриархально-пастушеской Грецией, какую можно представить себе по поэмам Гомера, были Афины Эсхила, Софокла и Еврипида, а развитым городом-государством (подчеркиваем вторую часть этого термина), где процветали земледелие, ремесла и торговля, но - главное для искусства - сложился совершенно другой, в силу этих отличий, тип человека. Индивидуальные особенности человека, его нрав и способности приобрели в его собственных глазах и в глазах общества больший вес, его представление о себе и богах изменилось. Наивно-антропоморфная гомеровская религия, где боги отличались от людей только бессмертием и сверхъестественным могуществом, а вообще-то вели себя как добрые или злые люди, сменилась теперь, когда человек стал мерилом вещей, более сложным религиозным сознанием. Унаследовав от своего прошлого внешнее человекоподобие, боги стали также олицетворением и носителями высоких нравственных норм, людских этических идеалов. И если мы говорим о преемственности - от трагика к трагику - идей, то прежде всего мы имеем в виду непрестанное развитие идеи человеческой личности как основы любых размышлений о мире и жизни, непрестанное углубление в тайники человеческой души.
Раскроем книги, почитаем сначала первого из великой тройки, потом второго и третьего. Ни одна из дошедших до нас трагедий, не только эсхиловских, но и вообще всех сохранившихся, не имеет таких реальных, немифических персонажей, как «Персы». Атосса, Дарий, Ксеркс - это исторические фигуры, правители Персидского государства, а не герои троянского или фиванского цикла мифов. Время действия - не седая гомеровская древность, а 480 год до н. э., когда персидское морское и сухопутное войско потерпело сокрушительное поражение в Греции, сам автор, Эсхил, - современник изображаемых им событий, участник сражений при Марафоне, при Саламине и при Платеях, и пройти мимо такого откровенного, единственного в своем роде слияния поэзии греческого трагика с его правдой значило бы упустить прекрасную возможность проникнуть в его умонастроение.
Действие происходит в стане врагов Греции, в персидской столице Сузах. О величайшем триумфе Греции мы узнаём здесь только из уст ее врагов. Эти враги называют себя «варварами» - несообразность, вызывающая у нас улыбку, ведь так именовали всех неэллинов лишь сами греки, хотя и не вкладывали в это слово всей полноты его нынешнего отрицательного смысла. Действительно, ничего варварского в современном понимании, то есть дикого, нечеловеческого, изуверского, ни в убитой горем Атоссе, ни в рассудительных персидских старейшинах, ни тем более в мудром, с точки зрения Эсхила, царе Дарий нет. Единственному «отрицательному» герою, неразумному н наказанному за свое неразумие царю Ксерксу можно поставить в вину только его непомерную гордость и дерзость, жертвой которых пали тысячи его соотечественников. Но гордыня и наглость для Эсхила вовсе не специфически чужеземные черты - этими недостатками страдают и греки, например, Полиник («Семеро против Фив»), Эгист («Орестея») и даже главный бог греков Зевс, покуда он не утратил своего первобытного человекоподобия («Прометей Прикованный»). Нет, гордыня, не гнушающаяся насилием, - это для Эсхила порок общечеловеческий, это как бы полярная противоположность нравственности. И все-таки именно контекст «Персов» настойчиво оживляет в нашем сознании нынешнее значение слова «варвар», и правы, нам кажется, переводчики Эсхила, не заменяющие здесь «варваров» никакими «иноземцами», «чужеземцами» или «персами». Не в том дело, что персы в этой драме то и дело исступленно плачут, бьют себя в грудь и вообще не стесняются неумеренного проявления горя и отчаяния. Плач, стоны, даже вопли - общее место трагедий, жанровая особенность, связанная, вероятно, с происхождением от обрядовых плачей. В какой трагедии нет рыданий и криков? Ассоциация с «варварством» идет не отсюда.
Атосса рассказывает старейшинам свое зловещее сновидение. «Мне две нарядных женщины привиделись: //Одна в персидском платье, на другой убор //Дорийский был». Приснившиеся царице женщины - символические фигуры, олицетворяющие Персию и Грецию. Когда, продолжает Атосса, ее сын, царь Ксеркс, попытался надеть на обеих женщин ярмо и впрячь их в колесницу, «Одна из них послушно удила взяла, //Зато другая, взвившись, упряжь конскую //Разорвала руками, вожжи сбросила// И сразу же сломала пополам ярмо». Сами эти образы - ярмо, сбруя - уже достаточно многозначительны. Дальше противопоставление греков и персов становится еще яснее. «Кто же вождь у них и пастырь, кто над войском господин?» - спрашивает, имея в виду греков, персидская царица, не представляющая себе никакой другой формы правления, кроме автократической. И получает от хора ответ, поразительно напоминающий уже известную нам речь Перикла: «Никому они не служат, не подвластны никому». И когда выясняется, что сон Атоссы сбылся, что Ксеркс наголову разбит греками, Эсхил, опять-таки устами персидского хора, делает из этого настолько общие и далеко идущие выводы, что можно уже говорить. о противопоставлении двух укладов жизни, один из которых - «варварский» и в нынешнем смысле, а другой - достойный человека, цивилизованный: люди больше не будут падать в страхе наземь и держать язык за зубами, потому что - «Тот, кто свободен от ига, // Также и в речи свободен».
В трагедии «Просительницы», действие которой происходит в легендарной для Эсхила древности, есть эпизод, где царь Аргоса Пеласг ведет переговоры с глашатаем грозящих вторжением на его территорию сынов Египта. Антагонистами здесь выступают, таким образом, эллин и египтянин. Пеласг заручился поддержкой народного собрания, он силен единодушием со своими подданными и издевается над законодательствами восточных деспотий, над их, мы сказали бы, бюрократизмом: «Невысекали мы на плитах каменных, // Не заносили на листы папируса // Своих постановлений - нет, свободное // Ты ясно слышишь слово:, Убирайся вон!». Не похоже ли отношение Пеласга к египтянам на. отношение Эсхила к персам? В «Орестее», мифологической по материалу, трагедии, как и «Просительницы», в словах царя Агамемнона снова звучит знакомый мотив: «Не нужно предо мной, как перед варваром, // С отверстым ртом сгибаться в три погибели, // Не нужно, всем на зависть, стлать мне под ноги // Ковры».
Настойчивость, с которой этот мотив повторяется, показывает, что для Эсхила он очень важен. Персия для поэта не просто конкретный политический враг, но и воплощение отсталого, менее гуманного, чем в родных Афинах, общественного устройства, но и прототип при изображении внешнего врага как угрозы самым глубоким корням греческой цивилизации. В трагедии, например, «Семеро против Фив», где дело происходит, как и в «Просительницах», в легендарные времена, на греческий город Фивы наступают не персы и не египтяне, а греки-аргосцы, то есть соотечественники того самого Пеласга, который обращался к египетскому глашатаю с таким гордым чувством своего превосходства. Но, глядя на события глазами фиванцев, Эсхил словно бы забывает, что и аргосцы - греки. Фиванцы называют их «воинством речи чужой» и молят богов не допустить, «…чтобы взят был приступом //И сгинул город, где звенит и льется речь //Эллады». Патриотическая гордость за Афины, за Грецию перерастает у Эсхила в гордость за демократический принцип государственной жизни, за свободолюбивого человека вообще.
Отмечая, что в «Персах» Эсхил не упоминает об ионийских греках, сражавшихся на стороне Ксеркса, то есть против своих соплеменников, и умалчивает о раздорах в самом греческом лагере накануне решающей битвы, некоторые исследователи объясняют это чисто политическим расчетом автора, тем, что какие бы то ни было укоры представляются ему тактически неуместными в момент, когда нужно создать прочный союз греческих государств. Но дело, нам кажется, не просто в узкополитическом расчете. Эсхил не официозный историк, а поэт, художник, он обобщает события, толкует их широко, противопоставляет, отталкиваясь от них, целые мировоззрения; да, он политик, но политик, как всякий настоящий художник, по большому счету, а не по малому. Среди имен персидских полководцев, перечисляемых в «Персах», много вымышленных. Но какое значение имеет это для нас сейчас? Ровно никакого. Какое значение имело бы для нас и упоминание, скажем, правительницы ионийского города Галикарнаса, гречанки Артемисии, заслужившей благодарность самого Ксеркса? Ровно никакого, если бы оно не стало толчком для размышлений о предательстве, о войне между людьми, говорящими на одном языке, то есть если бы оно не было идейно, художественно продуктивно. Вполне возможно, что такие размышления стали темой других, не дошедших до нас трагедий Эсхила. Но «Персы» не о том. Именно по поводу «Персов», единственной известной нам «исторической» трагедии, хочется напомнить крылатые слова из «Поэтики» Аристотеля: «Поэзия философичее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история - о единичном» (гл. 9, 1451).
Гордость за победоносную Грецию перерастала у Эсхила, мы сказали, в гордость за человека. Нет ли уже в самом осознании человеческого величия какого-то посягательства на авторитет богов, известного богоборчества? Как понимать замечание Маркса о том, что боги Греции были «ранены насмерть» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 1, стр. 389.) в «Прометее» Эсхила? Если сравнить Зевса, каким он предстает в трагедии «Прометей Прикованный» (мы имеем в виду монологи Прометея и Ио) с образом этого верховного бога в хоровых песнях других эсхиловских трагедий, нельзя не заметить странного противоречия. Зевс в «Прометее» - настоящий тиран, жестокий коварный деспот, презирающий людей, «чей век как день», похотливый насильник, виновник безумия несчастной Ио, злобный и мстительный правитель, подвергающий своего врага Прометея изощреннейшим пыткам. А в «Орестее» это божество по существу доброе, которое пусть «через муки, через боль», но «ведет людей к уму, к разумению ведет», божество, за силой которого скрывается милосердие, а в «Просительницах» хор уповает на справедливый суд Зевса, чья воля «и во мраке ночном черной судьбы перед взором смертных светочем ярким горит». Как согласовать одно с другим?
Прометей, похитивший для людей огонь, научивший их всяческим искусствам и ремеслам, - это, несомненно, олицетворение человеческого разума, цивилизации, прогресса. Пытливый дух Прометея вступает в конфликт с косностью, самовластием, приспособленчеством - всем тем, что олицетворяют Зевс и его присные - Гермес, Гефест, Сила, Власть, старик Океан. Но и пороки, которые они олицетворяют, - это ведь тоже пороки человеческих отношений, и Прометей - а с Прометеем Эсхил - восстает не против богов вообще, а против богов, вобравших в себя худшие качества людей. Боги, «насмерть» здесь раненные, - это примитивные человекоподобные боги, пережиток гомеровских или даже еще более древних времен.
Эсхил - не богоборец в смысле отрицания религии. Но его религия есть прежде всего верность этическому началу, олицетворяемому богиней Правды. В «Просительницах» поэт называет три заповеди Правды, три элементарных требования нравственности: почитание богов, почитание родителей, гостеприимное отношение к чужеземцам. Первый пункт самый расплывчатый, но в него, безусловно, входит убежденность в том, что боги воздают злом за зло, что злое дело не остается безнаказанным, - ведь все трагедии Эсхила как раз и показывают цепную реакцию зла при нарушении этих простейших правил. Более или менее сходные правила, в частности, принцип «зло за зло» были и в Ветхом завете, и в вавилонском законодательстве, и в римских законах Двенадцати таблиц. Религия Эсхила - это разновидность этического кодекса развитых древних цивилизаций, сложившаяся на родине поэта в его эпоху и получившая традиционно греческое оформление.
Мы знаем, что «Прометей Прикованный» - лишь часть трилогии, куда входили еще трагедии «Прометей Освобожденный» и «Прометей Огненосец». Ни порядка частей, ни содержания двух других мы не знаем. Но даже сравнение «Прометея Прикованного» со всеми остальными сохранившимися трагедиями Эсхила, где красной нитью проходит религиозная идея нравственного в своей основе мироустройства, наводит на мысль, что в «Прометее» поэт делает своего рода экскурс в историю современной ему религии, в историю, если можно так выразиться, цивилизации богов, обусловленной цивилизацией человека. В пользу такого многое объясняющего, предположения говорит и явное пристрастие Эсхила, который, как и другие трагики, всегда ставил перед собой воспитательно-просветительские задачи, ко всякому, с его точки зрения, научному материалу. Обратим внимание на длинные географические пассажи в том же «Прометее» или в «Агамемноне», на перечисление, устами Дария в «Персах», персидских царей. Поэт словно бы открывает зрителям мир во всей возможной пространственной и временной широте.
Но хотя в центре этого мира уже стоит человек - гордый своим свободолюбием, совершенствующий себя и своих богов царь природы, мы еще почти не можем разглядеть в эсхиловском человеке тех тонких черт, которые превращают монументальную фигуру в психологический портрет, носителя доброго или злого начала - в полнокровный образ. Нет, Эсхила нельзя упрекнуть в рассудочной отвлеченности, в невнимании к противоречивым движениям человеческой души, даже к ее иррациональным порывам. Его Клитемнестра, его Орест, совершая убийство, правы или не правы не абсолютно. Его безумные Ио и Кассандра написаны художником, которого интересует и патологическая сторона жизни, а не философом, облекающим свои положения в форму диалога. Философский диалог, философская драма придут в литературу позднее, Эсхил для этого писатель слишком ранний. И вот именно потому, что он еще только прокладыватель путей, пионер, его персонажи похожи на исполинские статуи, смело высеченные из каменной глыбы, едва обработанные резцом, нелощеные, но вобравшие в себя всю скрытую силу и тяжесть камня. И пожалуй, «Прометей», где действие происходит на краю света, среди первозданного хаоса скал, вдали от человеческого жилья, трагедия, где по замыслу перед зрителем появляются не люди, а только сказочные существа, только лики, не лица, таким своим внешним построением особенно впечатляюще соответствует этой характерной для Эсхила грубоватой контурности персонажей.
Когда, читая «Антигону» Софокла, доходишь до песни хора: «Много есть чудес на свете…» - возникает ощущение чего-то знакомого. Человек - поет хор - это величайшее чудо. Он владеет искусством мореходства, приручил животных, умеет строить дома, лечиться от болезней, он хитроумен и силен. В этом перечне человеческих возможностей, способностей и умений некоторые пункты кажутся заимствованными из Эсхила, из его списка прометеевских благодеяний. Прямого заимствования тут, конечно, нет. Просто у обоих поэтов один источник - мифы о божествах, научивших человека всяким полезным искусствам. Но, вчитываясь в ту же «Антигону», обнаруживаешь преемственность более глубокую, более содержательное продолжение эсхиловской традиции, чем незатейливый перепев.
Сюжет трагедии очень несложен. Антигона предает земле тело своего убитого брата Полиника, которого правитель Фив, дядя Антигоны Креонт, запретил хоронить под страхом смерти - как изменника родины и виновника междоусобной войны. За это Антигону казнят, после чего ее жених, сын Креонта, и мать жениха, жена Креонта, кончают жизнь самоубийством.
При такой своей сюжетной простоте эта софокловская трагедия дала богатую пищу для размышлений и споров далеким потомкам. Каких только толкований «Антигоны» не предлагало ученое остроумие! Одни усматривали в ней конфликт между законом совести и законом государства, другие - между правом рода (глава рода - брат) и требованием государства, Гете объяснял действия Креонта его личной ненавистью к убитому, Гегель считал «Антигону» совершеннейшим образцом трагического столкновения государства и семьи. Все эти толкования находят более пли менее твердую опору в тексте трагедии. Не вдаваясь в разбор их, поставим перед собой вопрос - почему вообще оказалось возможным так по-разному толковать драму с таким небольшим числом действующих лиц и так экономно построенную. Прежде всего, нам кажется, потому, что у Софокла спорят рельефно изображенные люди, сталкиваются характеры, индивидуумы, а не голые идеи, тенденции. Ведь и в жизни каждый поступок, каждый конфликт, не говоря уж о таком крайнем проявлении воли, как самопожертвование, подготовляется множеством предпосылок - воспитанием человека, его убеждениями, его особым психологическим складом, отчего так и трудно объяснить исчерпывающе любую житейскую Драму.
Софокл, как и Эсхил, полон интереса к человеку. Но у Софокла люди пластичнее, чем у его предшественника. Рядом с главной героиней выведена ее родная сестра Исмена. То, что Антигона и Исмена родные сестры, ставит их в совершенно одинаковое положение относительно Креонта и Полиника. Пожалуй, как у невесты сына Креонта, у Антигоны могло бы быть даже больше внутренних побуждений для «соглашательства», чем у Исмены. Но мирится с жестоким приказом Креонта все-таки Исмена, а не Антигона. Такое же точно сопоставление двух персонажей в момент, требующий решительных действий, мы находим в другой софоклрвской трагедии - «Электре». Перед нами опять, как и в «Антигоне», две родные сестры - Электра и Хрисофемида. Обеими помыкает их мать Клитемнестра, которая вместе со своим любовником Эгистом убила мужа - Агамемнона и боится мести от рук сына - Ореста, брата Электры и Хрисофемиды. Но Хрисофемида, в отличие от Электры, не способна возненавидеть убийц отца достаточно сильно, чтобы отомстить им с риском для собственной жизни. И неустрашимой помощницей Ореста в час мести оказывается поэтому именно Электра, а не Хрисофемида.
При подобных сопоставлениях двух фигур каждая поневоле оттеняет другую. У Эсхила были контрасты лишь самые резкие - между добром и злом, цивилизацией и дикостью, гордыней и благочестием. Софокловская контрастность богаче оттенками, и богаче оттенками софокловский человек.
В «Электре» Софокла речь идет совершенно о том же, о чем в. эсхиловской «Жертве у гроба», - о мести Ореста матери и ее любовнику за убийство отца. И у Эсхила среди действующих лиц важное место занимает Электра. Но у Софокла она становится центральным персонажем, и не будет преувеличением сказать, что этим выдвижением на роль главной героини Электра обязана своей вялой, робкой, готовой к компромиссу сестре, которой в трагедии Эсхила вообще не было. Только в сравнении с Хрисофемидой видна вся самобытность и недюжинность характера Электры, а у Эсхила Электре ничего не оставалось, как довольствоваться продиктованной мифом ролью пассивной союзницы брата.
В софокловском сравнении Антигоны с Исменой и Электры с Хрисофемидой заложен глубокий воспитательный смысл. Да, человек царь природы, да, дела человека чудесны, да, он способен спорить с самими богами. Но каким он должен быть, чтобы осуществить эту свою способность? Максимально требовательным к себе, готовым во имя своего нравственного идеала поступиться личным благополучием и даже пожертвовать жизнью.
Вершина такой педагогической требовательности к человеку - софокловский «Эдип-царь». Когда говорят, что греческая трагедия - трагедия рока, что она показывает беспомощность человека перед предопределенной ему злой судьбой, имеют в виду главным образом эту драму. Но распространенное представление о том, что рок - это движущая сила греческих трагедий, сложилось прежде всего из-за сюжетов, которые поражают нынешнего читателя своей диковинностью гораздо сильнее, чем то психологическое искусство, с каким они разработаны, потому что: к психологическим тонкостям литературы он, в отличие от античного грека, привык, а от ее обязательной связи с мифами, в том числе с мифами, восходящими к древнейшим временам кровосмесительных браков и отцеубийств, внутренне давно отрешился. Иными словами, в восприятии греческой трагедии как трагедии преимущественно рока есть доля модернизации, и убедиться в этом легче всего как раз на примере «Эдипа-царя».
Современный Софоклу зритель был достаточно хорошо знаком с мифом об Эдипе, который убил своего отца, не зная, что это его отец, а затем занял престол убитого и женился на его вдове, собственной матери, не подозревая опять-таки, что это его родная мать. В сюжете трагедии Софокл следовал общеизвестному мифу, и поэтому внимание зрителя, да и автора, не было сосредоточено на сюжете, который так поражает нас поистине роковым стечением обстоятельств. Волновал трагика и публику не вопрос «что?», а вопрос «как?». Как узнал Эдип, что он отцеубийца и осквернитель материнского ложа, как дошло дело до того, что он должен был об этом узнать, как вел он себя, узнав это, как вела себя его мать и жена Иокаста? Ответить на это психологически точно, показать именно в переходе от незнания к знанию благородный и цельный характер героя и научить на его примере зрителя мужественной готовности к любым ударам судьбы - вот какую гуманистическую задачу ставил перед собой Софокл. «Ничего противного смыслу не должно быть в ходе событий; или же оно должно быть вне трагедии, как в Софокловом „Эдипе“,» - писал Аристотель. И в самом деле, ничего «противного смыслу», ничего такого, что было бы нелогично, немотивированно, не вязалось бы с характерами персонажей, в развитии действия «Эдипа» найти нельзя. Если что «противно смыслу», так это явная незаслуженность обрушивающихся на Эдипа ударов, слепое упрямство рока, то есть все связанное с мифом, на котором построен сюжет. Слова Аристотеля о том, что в «Эдипе» «противное смыслу» находится «вне трагедии», дают, нам кажется, ключ к античному восприятию этой драмы: мифологический сюжет, где року принадлежала важнейшая роль, как бы выносился за скобки, принимался как непременная условность, служил поводом для разговора о нравственной ответственности человека за свои поступки, для психологически верной картины достойного поведения в самых трагических обстоятельствах.
В другой софокловской трагедии («Эдип в Колоне»), написанной поэтом в старости, когда у него начались нелады с сыновьями из-за имущества, причина ухода Эдипа из Фив называется другая, чем в «Эдипе-царе», который кончался прощанием героя с родиной и родными и его собственным решением уйти в изгнание: здесь Эдип - изгнанник поневоле, царя лишили престола его сыновья и рвущийся к верховной власти Креонт. Не говорит ли и это об условном и вспомогательном значении мифа для трагика? Ведь пользуясь разными вариантами известного мифологического сюжета и представляя одно и то же мифологическое лицо в разных обстоятельствах, поэт лишь подчеркивал то, что его особенно волновало и занимало. В этом смысле он работал по тому же принципу, что, например, живописцы эпохи Возрождения, для которых привычные библейские сюжеты служили формой, вбиравшей в себя современный жизненный материал и глубокое знание человека.
Сплошь мифологические персонажи действуют и в трагедиях самого младшего поэта прославленной триады - Еврипида. Однако произведения Еврипида кажутся нынешнему читателю написанными намного позднее, чем трагедии двух его старших современников. Они, как правило, вполне понятны и без особых объяснительных комментариев, и наше воображение отзывается на них живее и непосредственней. Почему так? Прежде всего, наверно, потому, что темы, на которые писал Еврипид, ближе нам, чем, скажем, архаичная космография Эсхила или его религиозные представления, чем исключительные обстоятельства, в какие попадают софокловские Эдип или Антигона. О главной теме Еврипида можно судить по двум его самым известным и лучшим трагедиям, включенным в наш сборник, - «Медее» и «Ипполиту». Тема эта - любовь и внутрисемейные отношения. О том же - о любви, о ревности, об обольщенных девушках и внебрачных детях - идет речь и почти во всех остальных дошедших до нас еврипидовских трагедиях.
Но дело не только в темах. Еврипид смело вводил в трагедию, говорившую возвышенным, а порой и выспренним языком, самые реальные бытовые подробности. У Эсхила и Софокла рабы если и появлялось на сцене, то лишь в небольших, «проходных» ролях, а чаще как статисты. Место рабов в еврипидовском театре куда больше соответствовало их месту в современном поэту быту. В трагедии «Ион» старик раб, воспитатель Креусы, фигура, так сказать, «не запрограммированная» мифом, - одно из главных действующих лиц. Еврипидовская Электра из одноименной трагедии оказывается к моменту появления Ореста выданной замуж за простого крестьянина. Ни Эсхил, ни Софокл не уготавливали дочери Агамемнона такой прозаической участи, оба сказали лишь, что Электрой помыкают в родном доме и что она живет в нем чуть ли не на положении служанки. Еврипид дал этой ситуации житейски земное развитие, и с мифологической героиней случилось то, что вполне могло бы при подобных домашних обстоятельствах случиться с какой-нибудь афинской девушкой из родовитой семьи: Электру выдали замуж за крестьянина против ее воли. Поэт словно бы предлагал более созвучное обыденности прочтение мифа.
Стремление Еврипида к максимальному правдоподобию трагедийного действия видно и в психологически-естественных мотивировках поведения персонажей. Трудно перечесть - настолько их много у Еврипида - случаи, когда герой, выходя на сцену, объясняет причину своего появления. Кажется, что поэту претит всякая сценическая условность. Даже сама форма монолога, речи без собеседников, адресованной только зрителям, то есть условность, с которой театр и поныне не расстается, - даже она, на взгляд Еврипида, иной раз нуждается, по-видимому, в логическом оправдании. Прочтите внимательно начало «Медеи». Кормилица произносит монолог, вводящий зрителя в курс дела и в общих чертах намечающий дальнейшее развитие действия. Но вот экспозиция дана, и монолог, выполнив свою задачу, закончился. Однако внутренне поэт еще не «разделался» с ним, потому что еще не мотивировал этой ни к кому формально не обращенной речи. Когда на сцене появляется старый раб с детьми Медеи, первые же его слова прокладывают путь к заполнению логического пробела: «О старая царицына раба!// Зачем ты здесь одна в воротах? Или // Самой себе ты горе поверяешь?» И кормилица объясняет эту речь к «самой себе» как следствие горестного умопомрачения: «До того // Измучилась я, веришь, что желанье, // Уж и сама не знаю как, во мне// Явилось рассказать земле и небу// Несчастия царицы нашей».
Эти особенности драматургии Еврипида, подчиненные общей его установке на приближение трагедии к быту, к житейской практике и житейской логике, установке, новаторскую плодотворность которой показала вся последующая история античного, а потом и всего европейского театра, по-видимому, и создают впечатление, что Еврипид отделен от нас куда более короткой временной дистанцией, чем Эсхил и Софокл, что «пыли веков» на его писаниях гораздо меньше.
При таком «бытовизме» трагедий Еврипида участие в их действии не подвластных земным законам богов, полубогов и всяких чудодейственных сил кажется особенно неуместным. На фоне вселенских стихий крылатая колесница Океанид в эсхгатовском «Прометее» не вызывает особого удивления, а волшебная колесница, на которой улетает от Ясона Медея, как-то озадачивает в трагедии с очень реальной человеческой проблематикой. Нынешний читатель, пожалуй, сочтет эту черту еврипидовской драматургии просто архаическим пережитком, сделает извинительную скидку на древность. Но ведь уже и Аристофан порицал Еврипида за негармоническое смешение высокого с низким, уже Аристотель упрекал его за пристрастие к приему «бог из машины», состоявшему в том, что развязка трагедии не вытекала из фабулы, а достигалась вмешательством бога, появлявшегося на сцене с помощью театральной машины.
Ни простая ссылка на древность, ни столь же простое согласие с мнением античных критиков Еврипида, считавших, что ему не хватало вкуса и композиционного мастерства, не помогут нам проникнуть в глубь этого эстетического противоречия, которое не помешало Еврипиду остаться в памяти потомства художником такого же ранга, как Эсхил л Софокл. Поэт действительно старался изображать людей такими, каковы они на самом деле. Он смело вводил в трагедию бытовой материал и так же смело включал в ее поле зрения темные страсти. Показывая в «Ипполите» гибель героя, самоуверенно противящегося слепой силе любви, а в «Вакханках»- героя, чрезмерно полагающегося на могущество рассудка, он предупреждал об опасности, которую таит в себе для норм, установленных цивилизацией, иррациональное начало в людской природе. И если для развязки конфликта ему так часто требовалось неожиданное вмешательство сверхъестественных сил, то дело тут не просто в неумении найти более убедительный композиционный ход, а в том, что поэт не видел в современных ему реальных условиях разрешения многих запутанных человеческих дел. Еврипиду иной раз важнее было поставить проблему, задать вопрос, чем дать на него ответ, - ведь смелая постановка новой проблемы и сама по себе воспитывает и учит.
Уже самая ранняя из дошедших до нас трагедий Еврипида - «Алкеста» - показывает, насколько больше, чем развязка драмы, заботила этого поэта постановка проблемы, проблемы в данном случае нравственно-философской, ибо «Алкеста» - это трагедия о смерти.
Богини судьбы обещали Аполлону избавить царя Адмета от смерти, если кто-либо из его близких согласится сойти в преисподнюю вместо него. «Царь испытал всех присных: ни отца, // Ни матери не миновал он старой, //Но друга здесь в одной жене обрел,//Кто б возлюбил Аидов мрак за друга». Как раз когда Адмет оплакивает умирающую Алкесту, в его дом приходит гостем Геракл. Несмотря на траур, Адмет оказывается хлебосольным хозяином, и в награду за это Геракл, победив демона смерти, возвращает Адмету живой уже похороненную жену.
Если судить только по фабуле и развязке, то «Алкеста» с ее недвусмысленно счастливым концом - произведение как будто совсем другого жанра, чем «Ипполит» или «Медея». Кстати сказать, в «Алкесте» счастливая развязка достигается без помощи приема «бог из машины», она вытекает из сюжета: Геракл появляется не в конце действия, а почти в середине, да п услуга, оказанная им Адмету, мотивирована вполне реалистически - благодарностью за гостеприимство. Но, вчитываясь в «Алкесту», видишь, что Еврипид уже и здесь - «трагичнейший из поэтов», хотя Аристотель назвал его так за то, что «многие из его трагедий кончаются несчастьем» («Поэтика», гл. 13, 1453 а).
Обрабатывая по всем правилам драматургической техники миф с благополучным исходом, Еврипид сделал идейным центром тяжести своего произведения разговор Адмета с отцом. Адмет корит Ферета за то, что тот цепляется за жизнь в преклонном возрасте и не хочет пожертвовать ею ради него, сына. Поведение Ферета тем непригляднее, что на самопожертвование согласилась его невестка Алкеста, и зритель уже склонен стать на сторону Адмета. Но тут слово берет Ферет и возвращает Адмету, который соглашается купить жизнь ценой жизни жены, упрек в трусости: «Молчи, дитя: мы все жизнелюбивы». И сразу ясно, что Адмет не менее эгоистичен, чем его отец, что это еще вопрос - стоит ли ради такого человека жертвовать жизнью, более того - что никаких объективных критериев правомерности самопожертвования нет. Благородный поступок Алкесты, как бы говорит нам поэт, не снимает проблему, а ставит ее, не давая никаких общих решений, и перед лицом этой неразрешимости уместно только молчанье. Вот она, истинно трагическая коллизия, при которой благополучная развязка кажется такой же театральной условностью, как волшебная колесница, уносящая Медею от неразрешимых проблем семьи.
Поэт скептичен, у него нет твердой, эсхиловско-софокловской убежденности в высшей нравственной правоте богов, устраивающих человеческие дела. Приверженец патриархальной старины Аристофан недолюбливал за это Еврипида и всячески противопоставлял ему Эсхила, как певца мужественного поколения марафонских бойцов. И все же Еврипид был настоящим преемником Эсхила и Софокла. Такой же гражданственный поэт, как и они, он так же сознательно служил самой гуманной политической системе своего времени - афинской демократии. Да, Еврипид многое подвергал сомнению и касался вопросов, которые до него в компетенцию трагиков не входили. Но сомнения в величайшей ценности демократических традиций родной Греции не возникало у него никогда. Невозможно перечислить все стихи, в которых поэт прославляет Афины, - так их много в его трагедиях. Чтобы не выходить за пределы нашего сборника, обратим внимание читателя только на то место в «Медее», где грек Ясон заявляет своей покинутой жене - колхидянке, что вполне рассчитался с ней за все, что она для него сделала, - а ей он, заметим, обязан жизнью. «Я признаю твои услуги. Что же // Из этого? Давно уплачен долг, // И с лихвою. Во-первых, ты в Элладе // И больше не меж варваров, закон// Узнала ты и правду вместо силы, // Которая царит у вас». Что говорить, Ясон лицемерит, юлит, но все равно чего стоит это «во-первых» даже в его устах! Тонкий психолог, Еврипид едва ли вложил бы в них прежде всего такой довод, если бы перикловско-эсхиловская гордость за свой свободолюбивый народ не была органична для него самого. Нет, Еврипид, как и Софокл, - родной брат Эсхила, только брат самый младший, наименее косный, критически относящийся к опыту старших.
Однако критика стала настоящей стихией афинского театра с расцветом другого жанра и благодаря другому автору, которого Белинский назвал «последним великим поэтом Древней Греции». Жанр этот - комедия, так называемая древнеаттическая, автор - Аристофан (приблизительно 446–385 гг. до н. э.). Когда Аристофан родился, комические поэты уже лет сорок регулярно участвовали в дионисийских состязаниях наряду с трагиками. Но о предшественниках Аристофана Хиониде, Кратине и о его сверстнике Эвполиде мы мало что знаем, от их произведений сохранились в лучшем случае только фрагменты. В том, что время сберегло нам от века расцвета античной драмы - V века до н. э. - произведения лишь гениальных трагиков и лишь гениального комедиографа, сказывается, должно быть, какой-то закономерный отбор.
Критика Аристофана - прежде всего политическая. Аристофан жил в годы внутригреческой Пелопоннесской войны, которая велась в интересах богатых афинских торговцев и ремесленников и разоряла мелких землевладельцев, отрывая их от труда, а порой и опустошая их виноградники и поля. После Перикла главным должностным лицом в Афинах стал Клеон, владелец кожевенной мастерской, сторонник самых решительных военных, политических и экономических мер в борьбе со Спартой, человек, чьи личные качества не снискали одобрительной оценки ни у одного из античных авторов, о нем писавших. Аристофан занимал прямо противоположную, антивоенную позицию и начал свою литературную карьеру с упорных нападок на Клеона, сатирически изображая его как демагога и лихоимца в ранних своих комедиях. Не дошедшая до нас комедия двадцатилетнего Аристофана «Вавилоняне» заставила Клеона возбудить против автора судебное дело. Поэта обвинили в том, что он дискредитирует должностных лиц в присутствии представителей военных союзников. Политического процесса Аристофан каким-то образом избежал и оружия не сложил. Через два года он выступил с комедией «Всадники», где изобразил афинский народ в виде слабоумного старика Демоса («демос» по-гречески - народ), целиком подчинившегося своему пройдохе-слуге Кожевнику, в котором нетрудно было узнать Клеона. Есть свидетельство, что ни один мастер не решался придать комедийной маске сходство с лицом Клеона и что Аристофан хотел играть роль Кожевника сам. Смелость? Несомненно. Но в то же время эта история с Клеоном показывает, что в начале деятельности Аристофана демократические нравы и учреждения были в Афинах еще очень сильны. За нападки на главного стратега поэта надо было привлекать к открытому суду, а избежав суда, поэт мог снова, и в условиях войны, высмеивать перед многотысячной аудиторией первое лицо в государстве. Конечно, успех театральной сатиры не означал еще политического краха для того, против кого эта сатира направлена, и прав был Добролюбов, когда писал, что «Аристофан… не в бровь, а в самый глаз колол Клеона, и бедные граждане рады были его колким выходкам; а Клеон, как богатый человек, все-таки управлял Афинами с помощью нескольких богатых людей». Но если бы Клеон был уверен, что никто не посмеет публично «кольнуть» его, то он, при своих задатках демагога, правил бы Афинами, пожалуй, еще круче и еще меньше считался бы со своими противниками… Последние годы деятельности поэта - после военного поражения Афин - протекали в иных условиях: демократия потеряла былую силу, и злободневная, полная личных выпадов сатира, столь характерная для молодого Аристофана, сошла в его творчестве почти на нет. Поздние его комедии - это утопические сказки. Политические страсти, волновавшие Аристофана, давно ушли в прошлое, многие его намеки нам непонятны без комментариев, его идеализация аттической старины кажется нам теперь наивной и неубедительной. Впрочем, картины мирной жизни, которую поэт, как противник Пелопоннесской войны, прославлял, трогают нас и теперь, и в 1954 году аристофановский юбилей широко отмечался по инициативе Всемирного Совета Мира. Но истинное эстетическое наслаждение, читая Аристофана, мы испытываем от его неистощимой комической изобретательности, от гениальной смелости, с какой он извлекает смешное из всего, чего ни коснется, будь то политика, быт или литературно-мифологические каноны.
Сама внешняя форма аристофановской комедии - с ее непременным хором, песни которого делятся на строфы и антистрофы, с использованием театральных машин, с участием в действии мифических персонажей - дает возможность пародировать структуру трагедии. В дни драматических состязаний зрители с утра смотрели трагедию, а под вечер, сидя в том же театре, на тех же местах, - представление, призванное очищать душу не «страхом и состраданием» (так определял задачу трагедии Аристотель), а весельем и смехом. Мог ли при этих условиях комический поэт удержаться от насмешливого подражания трагикам? Словно выпущенный из бутылки внешним сценическим сходством, дух пародии захватывал разные сферы трагедии. В комедии «Мир» земледелец Тригей поднимается в небеса на навозном жуке. Это уже пародия на трагедийный сюжет: известно, что не дошедшая до нас трагедия Еврипида «Беллерофонт» строилась на мифе о Беллерофонте, пытавшемся достигнуть Олимпа на крылатом коне. Но и на сюжетах пародирование трагедии не кончается, оно идет дальше, распространяется на язык и стиль. Когда старик Демос во «Всадниках» отнимает венок у своего слуги Кожевника и передает его Колбаснику, Кожевник, прощаясь с венком, перефразирует слова, которыми в трагедии Еврипида прощается со своим брачным ложем умирающая за мужа Алкеста. Подобных примеров множество. Такое последовательное высмеивание технологии трагедии находится на грани посягательства на театральную условность вообще. И грань эту Аристофан переходит в так называемых парабасах.
Парабаса - особенная, неведомая трагедии хоровая партия. Здесь участники хора снимают с себя маски и обращаются не к другим актерам, а прямо к зрителям. Прервав действие ради лирически-публицистического отступления, поэт устами хора рассказывает публике о себе, перечисляет свои заслуги, нападает на своих политических и литературных противников. Разговор со зрителем, по-видимому, не аристофановское изобретение, а древнейшая хоровая основа обличительной комедии. Но на широком фоне пародийных выдумок Аристофана парабаса воспринимается как одна из них - как пародия на театральную условность, как намеренное разрушение сценической иллюзии, предвосхищающее. все дальнейшие - от Плавта до Брехта - шаги мировой драматургии на этом пути.
Как бы выходя из «цеховых» пределов, где он родился, аристофановский дух пародии не ограничивался трагедийным театром, а непринужденно вторгался в самые разные области культуры и быта, если только это шло на пользу политическому умыслу автора. Заставляя в «Облаках» Сократа и Стрепсиада беседовать о том, как избавиться от долгов, то есть на тему отнюдь не философскую, Аристофан пародировал форму сократовского диалога и уже этим одним выставлял в смешном свете Сократа, которого считал софистом, расшатывающим устои демократического афинского государства и патриархальной нравственности. Дух пародии не отступал даже перед почтенной тенью Гомера. В комедии «Осы» одержимого страстью к сутяжничеству старика Клеонолюба (красноречивое имя!) запирает в доме его сын Клеонохул, и Клеонолюб выбирается на свободу тем же способом, что Одиссей из пещеры циклопа, - под брюхом, правда, не барана, а выводимого для продажи осла. Что Гомер! Аристофан, не смущаясь, пародирует молитвы, статьи законов, религиозные обряды, - те самые, которые действительно были в ходу в его времена. Дух пародии не знает поистине никаких «табу».
Что же это, безудержное издевательство надо всем и всеми, отрицание, возведенное в абсолют? Ведь даже и тот аристофановский персонаж, чьим торжеством завершается соответствующая комедия, тоже всегда смешон. Любителя спокойной деревенской жизни Стрепсиада, поджигающего в конце концов сократовскую «мыслильню», Аристофан то и дело безжалостно ставит в ситуации, которые должны вызвать у зрителей насмешливое отношение и к этому антагонисту Сократа: то его едят клопы, то он плутует с кредиторами, то его колотит собственный сын. Поднявшись в воздух на навозном жуке, герой «Мира», крестьянин Тригей, кричит театральному механику, который управляет приспособлением для «полета»: «Эй ты, машинный мастер, пожалей меня!.. // Потише, а не то я накормлю жука!» В комедии «Ахарпяне» аттический земледелец Дикеополь, - а имя это значит «справедливый город», - заключающий в итоге сепаратный, для одного себя, мир со Спартой, предстает перед публикой в откровенно-фарсовых, изобилующих балаганным юмором сценах. Но как ни смешны эти персонажи, мы не сомневаемся в том, что симпатии автора на их стороне. Холодом всеотрицания от аристофановского смеха не веет.
В том-то и гениальность этого поэта, что у него нет застрахованных от насмешек «положительных» резонеров, а положительный герой есть, Герой этот - крестьянский здравый смысл, а здравый смысл всегда человечен и добр. Благодаря такой гуманной основе аристофановского юмора творения его долговечны, и мы, для которых Пелопоннесская война и ее последствия давно уже стали древней историей, читаем комедии Аристофана с сочувственным интересом и эстетическим удовольствием.
О том, как развивалась греческая драматургия непосредственно после Аристофана, мы мало что знаем. Кроме имен шести десятков авторов, от так называемой среднеаттической комедии ничего не осталось. Судить о ней мы можем лишь умозрительно, по последним аристофановским комедиям («Женщины в народном собрании» и «Плутос»), где среди героев нет конкретных политических фигур, где публицистические парабасы отсутствуют и где хор почти не участвует в действии. Перед нами пробел протяженностью почти в столетие, и если бы не счастливые находки XX века, - в 1905 и 1956 годах были обнаружены тексты Менандра, - пробел в нашем знании античной драмы оказался бы еще больше и насчет следующего, так называемого новоаттического этапа в развитии комедии нам тоже только и оставалось бы строить догадки.
При Менандре (342–292 гг. до н. э.) Афины уже не главенствовали в Греции. После военной победы македонян над афинянами и фиванцами в 338 году до н. э. эта роль прочно закрепилась за Македонией, и по мере расширения державы Александра Афины становились все более провинциальным городом, хотя и долго еще пользовались славой в античном мире, как неостывший очаг культуры. Жизнь здесь текла теперь без политических бурь, гражданские чувства заглохли, людей уже не связывала, как прежде, их принадлежность к одному городу-государству, человеческая разобщенность усилилась, и круг интересов афинянина замыкался теперь, как правило, личными, семейными, бытовыми заботами и делами. Новая аттическая комедия все это отразила, больше того, она сама была порождением этой новой действительности.
Еще до находок 1905 и 1956 годов были известны слова Аристофана Византийского, ученого критика III века до н. э.: «О Менандр и жизнь, кто из вас кому подражал!» При знакомстве с тем, что уцелело от произведений Менандра, такая восторженная оценка может удивить. Уже Аристофан не брал сюжетов из мифологии, а сам их придумывал, относя действие своих комедий к настоящему времени, уже Еврипид смело вводил в трагедию чисто бытовой материал. Эти особенности драматургии Менандра не так уж, скажем мы, оригинальны. И непомерно большую, на наш взгляд, роль играют в комедиях Менандра всякие счастливые совпадения. В «Третейском суде» по воле случая молодой человек женится на девушке, не зная, что именно она была незадолго до этого изнасилована им и что ее ребенок - это их общий ребенок. В «Брюзге» - опять-таки случайно- попадает в колодец старик Кнемон, и это дает возможность влюбленному в его дочь Сострату оказать старику помощь и завоевать его расположение. Такие случайности кажутся нам слишком наивными и нарочитыми, чтобы построенные на них пьесы - с сюжетом к тому же непременно любовным - можно было назвать самой жизнью. Да и персонажи Менандра сводятся в общем к нескольким типам и лишь слегка варьируют одни и те же образцы. Из комедии в комедию переходят богатый юноша, скупой старик, повар и уж непременно раб, который при этом не всегда расстается со своим именем, - настолько слилось, например, имя Дав с маской раба. Нам и тут хочется сказать: «Нет, это еще далеко не вся жизнь тогдашних Афин».
Но как ни преувеличенно выразил свое восхищение Менандром Аристофан Византийский, он восхищался им искренне и был лишь одним из многих его античных поклонников. Овидий назвал Менандра «восхитительным», а Плутарх засвидетельствовал огромную популярность этого комедиографа. Мы читаем Менандра, уже зная и Мольера, и Шекспира, и итальянскую комедию XVIII века. Скряга-старик, плутоватый слуга, путаницы и недоразумения, завершающиеся счастливым примирением влюбленных, две любовные пары - главная и второстепенная - все это нам уже знакомо, и, находя все это у Менандра, мы, в отличие от его античных почитателей и подражателей, не можем проникнуться живым ощущением новизны. А между тем именно к Менандру - через римлян Плавта и Теренция - восходит позднейшая европейская комедия характеров и положений. Из-за того, что Менандр «открыт» только недавно, даже историки литературы еще не оценили по заслугам его новаторства.
Новаторство Менандра состояло не только в том, что он выработал продуктивнейшие, как показало будущее, приемы построения бытовой комедии и создал галерею человеческих портретов такой реалистической естественности, какой ни мифологическая трагедия с ее величавыми героями, ни гротескная аристофановская комедия еще не знали. Менандр первый в европейской литературе художественно запечатлел особый тип отношений между людьми, родившийся в рабовладельческом обществе и существовавший затем в феодальные времена, - сложных отношений хозяина и слуги. Когда один человек подчинен другому, находится при нем почти неотлучно и во всем от него зависит, но посвящен во все, даже интимные подробности его жизни, знает его привычки и нрав, он может, если от природы неглуп, обратить это знание себе на пользу и, умело играя на слабостях своего господина, в какой-то мере управлять его действиями, что родит в слуге чувство своего превосходства над ним. Со смесью преданности и неприязни, доброжелательности и злорадства, уважения и насмешливости разговаривают со своими патронами параситы и рабы у Плавта и Теренция, слуги и служанки у Гольдони, Гоцци и Бомарше, Лепорелло с. Дон Гуаном в «Каменном госте» Пушкина. В речах менандровских рабов-наперсников без чьих советов и помощи, обычно не могут обойтись их хозяева ни в любовных, ни в семенных делах, этот тон довольно отчетливо слышен, и, говоря о новаторстве Менандра, нельзя не отметить такой его психологической чуткости.
Мы уже немного забежали вперед, упомянув о римских подражателях Менандра. Римская драма, - во всяком случае, в ее сохранившейся до нашего времени части, - вообще подражательна и тесно связана с греческой, но как все цветы греческой культуры, пересаженные на почву другой страны, другого языка, другой эпохи, и этот ее цветок, приспособляясь к новой среде, изменил свою окраску, приобрел иной аромат.
Скажем сразу - цветок этот захирел. Театральное дело в Риме всегда находилось в неблагоприятных условиях. Власти боялись идеологического влияния сцены на массы. До середины I века до н. э. в Риме вообще не было каменного театра. В 154 году до н. э. сенат постановил сломать только что выстроенные места для зрителей, «как сооружение бесполезное и развращающее общество». Правда, и это, и другие официальные запрещения (приносить с собой скамьи, чтобы не стоять во время спектакля; устраивать места для зрителей ближе, чем в тысяче шагах от черты города) всячески нарушались, но они влияли на умы, заставляли смотреть на театр как на что-то подозрительное и предосудительное. К актерам в Риме относились с презрением, театральных авторов тоже не очень жаловали. Поэт Невий (III в… до н. э,), попытавшийся было говорить со сцены «вольным языком» - это его собственное выражение, - угодил за это в тюрьму, так и не став римским Аристофаном. Примечательно, что крупнейшие римские комедиографы были людьми низкого общественного положения. Невий - плебей, Плавт (ок. 250–184 гг. до н. э.) - из актеров, Теренций (род. ок. 185 г. до н. э.) - вольноотпущенник, бывший раб. Подражательство грекам господствовало в Риме не только в силу общей ориентации тамошней более молодой культуры на старую и утонченную, но и потому, что учить публику собственной, вольной и злободневной песней ни в республиканском, ни в императорском Риме театральный поэт просто не смел.
Отсюда и совсем другое, чем в Греции V века до н. э., отношение римского автора к себе и своему творчеству. Аристофан гордился тем, что он первый учил в комедии сограждан добру. Как- оценивал себя Невий, мы не знаем, от его поэзии уцелели лишь отдельные стихи. Для самоощущения же Плавта и особенно Теренция характерно сознание их эпигонства, их вторичности. Они на большое не притязали, все их честолюбие было направлено на то, чтобы развлечь зрителей. В одном из своих прологов Теренций с трогательным простодушием объяснял публике, почему он заимствовал сюжет и вообще весь материал у Менандра: «В конце концов не скажешь ничего уже, // Что не было б другими раньше сказано». Предпосылая пролог каждой комедии, Теренций отвечал в нем своим литературным противникам, и из этих его ответов видно, как чужд был дух первородства обеим полемизирующим сторонам - и самому Теренцию, и его критикам, - трудно сказать, кому больше. Те обвиняли его в том, что он не просто переводит на латинский язык какую-либо комедию Менандра или другого новоаттического автора, а переделывает ее или даже прибегает к контаминации, то есть соединяет в одно целое два греческих образца. А Теренций говорил в свое оправдание, что не он первый так поступает что он лишь идет по стопам своих римских предшественников - Невия, Плавта.
Что касается Плавта, то он был гораздо талантливее Теренция. Жанр Плавта - тоже «комедия плаща» (это название произошло оттого, что актеры, выступая в переложениях комедий Менандра, Дифила и других греков, надевали греческие плащи - гиматии). Однако Теренцжй остался, как метко назвал его Юлий Цезарь, «Полу-Менандром», а Плавт сумел по-своему оживить старые формы. Действие у Плавта всегда происходит в греческих городах - в Афинах, Фивах, Эпидавре, Эпидамне и других, но плавтовский город откровенно условен, это какая-то особая комедийная страна, где номинально живут греки, но несут службу римские должностные лица - квесторы и эдилы, где в ходу римские монеты- нуммы, где есть и клиенты, и форум, и прочие атрибуты римского быта. Да и юмор у Плавта не менандровский, тонкий и сдержанный, а грубоватый, более доступный римской публике, порой балаганный, и язык у него не литературно-гладкий, «переводной», а богатый, сочный, народный. Полу-Менандром Плавта не назовешь.
И все-таки Плавт не отрывался от греческих образцов настолько, чтобы чувствовать себя оригинальным автором, а не переводчиком. В плавтовском Риме жизнь была куда суровее, чем в эллинистических Афинах. А приметы римского быта в комедиях Плавта призваны были только сделать его переводы более доходчивыми, более понятными публике, но в широкую картину современности не складывались, не уводили зрителя из мира театральных условностей, никаких злободневных обобщений в себе не несли. Человек умный и талантливый, Плавт сам говорил о своей скованности «правилами игры» с веселой насмешкой: «Так все поэты делают в комедиях: // Всегда в Афины помещают действие, // Чтоб все казалось непременно греческим». Но такое подтрунива"ние над традицией уживалось у Плавта, стоявшего еще у самых истоков латинской словесности, с некоторым недоверием к собственным ее возможностям. Плавт назвал Невия «варварским поэтом», а свою комедию «Ослы», где помимо примет римского быта есть блестки чисто италийского юмора, - всего-навсего «переводом на варварский язык» комедии грека Дифпла.
Плавт и Теренций подражали грекам в эпоху, когда Рим, одерживая победы над Карфагеном и крупнейшими эллинистическими государствами - Македонией, Сирией, Египтом, - только становился сильнейшей державой мира. Ко времени Сенеки (конец I в. до н. э. - 65 г. н. э.).
Рим ею уже давно был, пережив и восстания рабов, и войны в непокорных провинциях, и гражданскую войну, и смену республиканского строя империей. Комедиографы Плавт и Теренций принадлежали к низам общества. Сенека носил в лучшие годы своей карьеры звание консула и был очень богат. Кроме философских трактатов и сатиры на смерть императора Клавдия, этот «первый интриган при дворе Нерона» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 15, стр. 607.), как назвал Сенеку Энгельс, сочинил несколько трагедий, оказавшихся единственными дошедшими до нас образцами римской трагедии, так что судить о ней мы можем только по ним. От произведений римских предшественников Сенеки в этом жанре - Ливия Андроника, Невия, Пакувия, Акция, поэтов III и II веков до н. э. - ничего не осталось.
Итак, перед нами произведения, написанные в другую эпоху, совсем в другом жанре и человеком совсем другого социального положения, чем плавтовские и Теренциевы переделки греческих пьес. Тем не менее у первых есть одна общая со вторыми черта - формальное следование канонам соответствующего вида греческой драмы. Здесь, однако, необходима оговорка. Плавт и Теренцнй писали для сцены, в расчете на то, что их комедии будут играть актеры и смотреть зрители. Сенека же, как считают исследователи его творчества, не был театральным автором, его трагедии предназначались для чтения вслух в узком кругу, Эта их особенность, чем бы она ни была вызвана, сама по себе принципиально отличает Сенеку от всех его предшественников - и греков и л и римлян - и делает его имя, образно говоря, заметнейшей вехой, а еще точнее - памятником в истории античной драмы. Именно памятником - потому что отказ драмы от спектакля - это свидетельство ее смерти. При всей их несамостоятельности, комедии Теренция были еще органическим продолжением традиции, бытовавшей в античности со времен древнейшего дионисийского действа. А у Сенеки традиция выродилась в ученую стилизацию.
Не нужно понимать это в том смысле, что в своих мифологических, трагедиях Сенека вообще не касался современной ему римской действительности. Напротив. Мотивы всех этих трагедий - кровосмешение («Эдип»), чудовищные злодеяния тирана («Тиэст»), убийство царя женой и ее любовником («Агамемнон»), патологическая любовь («Федра») и т. п. достаточно актуальны для дворцового быта династии Юлиев-Клавдиев, для круга, к которому принадлежал Сенека. Намеки, разбросанные по тексту этих трагедий, часто весьма прозрачны. Но у Сенеки нет той высокой поэзии, в которую претворяла правду жизни трагедия греков, нет эсхиловской окрыленности гуманной идеей, нет софокловской пластичности персонажей, нет еврипидовской аналитической глубины. Обобщения Сенеки не идут дальше общих мест стоической философии - холодно-назидательных рассуждений а покорности судьбе, неубедительной в его устах проповеди безразличия к благам жизни, дальше отвлеченно-риторических выпадов против самовластия. Внешне у Сенеки все как у греческих трагиков, местом действия служат дворцы, монологи и диалоги перемежаются хоровыми партиями, герои в конце погибают, - а внутреннее отношение к мифу у него совершенно иное - миф не служит в его трагедиях почвой для искусства, он нужен Сенеке для иллюстрации ходячих стоических истин и для маскировки чреватых неприятностями намеков на современность.
Кроме девяти мифологических трагедий, под именем Сенеки до нас дошла одна - «Октавия», написанная на римском историческом мате-, риале. Автором «Октавии» Сенека, безусловно, не был. Трагедия, где в форме предсказания приводятся подлинные подробности гибели Нерона, который к тому же изображен деспотом и злодеем, сочинена, конечно, после смерти этого цезаря, пережившего Сенеку - тот по его приказу вскрыл себе вены - на целых три года. Но по композиции, по языку и стилю «Октавия» очень похожа на другие девять трагедий. Это произведение той же школы, и сам Сенека выведен здесь не просто сочувственно, а как некий идеал мудреца. У греков единственная известная нам историческая трагедия - «Персы» Эсхила, у римлян это - «Октавия», отчего именно ее мы и выбрали для нашего сборника.
Сюжетом здесь служат действительные события 62 года н. э. По приказу Нерона, вздумавшего жениться на своей любовнице Поппее Сабине, его жена Октавия была сослана на остров Пандатрию и там убита. Соответствуют действительности и частые в этой трагедии упоминания о других злодействах Нерона - о его матереубийстве, об умерщвлении брата Октавии Британика, об убийстве мужа и сына Поппеи Сабины. Речь идет не о легендарных Эдипах, Медеях и Клитемнестрах, не о туманной древности, как в греческих трагедиях, а о реальных людях, о делах, которые делались на памяти автора.
Греческие трагики «очеловечивали» миф, они смотрели на него сквозь призму более поздней культуры и вкладывали в его толкование свое мироощущение, свои представления о нравственном долге и справедливости, даже свои ответы на конкретные политические вопросы. Автор «Октавии», наоборот, мифологизирует современность, подчиняя драматическое повествование об изуверствах цезаря греческим трагедийным канонам. Поппея рассказывает приснившийся ей зловещий сон - рассказывает своей кормилице. Мать Нерона Агриппина появляется на сцене в виде призрака. О недовольстве народа Поппее сообщает вестник. Как тут не вспомнить сон Атоссы, тень Клитемнестры, кормилицу Федры, вестников и глашатаев Эсхила, Софокла и Еврипида! Сходство с греческой трагедией довершается участием в действии двух хоров римских граждан.
И опять сходство здесь только внешнее. После смерти Нерона и смены династии Юлиев-Клавдиев династией Флавиев, когда говорить о нероновских преступлениях не было уже опасно, автор «Октавии» позволяет себе коснуться этой наболевшей темы. Но как! С начетническим педантизмом и эстетской холодностью препарирует он кровавую быль, укладывает ее в прокрустово ложе литературного подражания, превращая ее тем самым в абстракцию, в миф. Никакого нравственного осмысления реальных событий, никакого душевного очищения подобный отклик на них в себе не несет. В этом и состоит коренное отличье римской трагедии от греческой. Это и есть несомненный признак смерти детища языческой мифологии - античной драмы,